Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Новый год: праздник или ожидание праздника?
Статус Нового года в современной системе российских праздников совершенно уникален. В многочисленных интервью с известными людьми, публикуемых в предновогодних СМИ, Новый год именуется любимым праздником. Те же результаты, очевидно, может дать и массовый социологический опрос. «Праздничность» Нового года в российском менталитете не подвергается никакому сомнению, Новый год — единственный праздник, который празднуют все; он беспроблемен по сравнению с другими праздниками. Новый год признается, по крайней мере открыто не отрицается, всеми конфессиями. Новый год благополучно пережил почти всех своих собратьев по советской праздничной системе, может быть, за исключением Восьмого марта, репутация которого всегда была небезупречна. Новый год и в советское время был самым неофициальным из всех официально признанных праздников[1], что, кстати, позволило сохранить до сих пор праздничную топику советской эпохи в его составе.
В традиционной культуре праздник всегда имеет ритуальное ядро, которое, собственно, и определяет основную функциональность праздника. Ритуал, символически возвращая реальность к мифологическому инварианту, сообщает ей качество истинной жизни. Упрощенно говоря, жизнь существует, ибо «заряжена» существованием в ритуале[2]. Наш Новый год связан с архетипическими представлениями о календарном времени, на которых основываются традиции календарной обрядности всех народов мира, но при этом его праздничное обличье, конечно, далеко от традиционного[3].
В безритуальную эпоху праздник, естественно, меняет свои функции; он ориентирован в наших представлениях на свободное, личностное воплощение наших праздничных желаний, «праздничных утопий», а не на следование обрядовому канону. Интереснее другое: ритуальность все-таки сохраняется или продуцируется заново, на новой основе, но мы не склонны осознавать ее как ритуальность.
Попробую очертить ритуальную модель современного Нового года. Все прекрасно знают на собственном опыте, что Новый год начинается задолго до Нового года. Фразы типа «Скоро Новый год» мы говорим уже с середины ноября. Приблизительно за три-две недели мы начинаем старательно спрашивать друзей, знакомых, даже сослуживцев — где, с кем и как они собираются встречать Новый год. Эти опросы только в малой степени имеют практическое значение — решить, где праздновать самому; скорее им свойственен некий ритуальный смысл (какой?), тем более что подобные вопросы мы задаем совершенно автоматически. На фоне этого формирующегося знания о праздновании Нового года мы задумываемся и о своем празднике. Чаще всего для взрослого человека решение этого вопроса содержится в его многолетнем опыте празднования (новогодние компании складываются годами[4]), но, кажется, особой ценностью обладает это новогоднее перебирание возможностей: а что если поехать в деревню; встретить Новый год за городом; пойти в ресторан; пойти в гости туда, куда не ходили; пригласить в гости тех, кого не приглашали; или вообще наоборот — встретить Новый год дома, чего раньше никогда не делали, и т. д. Это перебирание возможностей, между прочим, может продолжаться вплоть до 31 декабря и, кажется, обретает качество обязательности.
Ближе к Новому году начинается обсуждение новогоднего стола, т. е. перебирание гастрономических возможностей; в советскую эпоху оно было связано не только с проблемой выбора, но и с проблемой доставания дефицита. Только покупка шампанского превращалась в почти обрядовое действо — с «выстаиванием» очередей, с подключением друзей и даже с выпивкой по поводу совершившейся покупки. И опять же — коллекционируются рецепты, обсуждаются разные кулинарные изыски, принимается коллективное решение отказаться от стандартных салатов — в результате на новогоднем столе появляются с ритуальной неизбежностью салат «Оливье», селедка «под шубой» и т. д.[5]
Вообще кажется, что подготовка к Новому году чуть ли не важнее самого праздника. Смысл новогодней елки в большей степени заключается не в ее присутствии в доме как праздничного символа, а в процессе ее покупки и украшения: выбор елочного базара; стояние в очереди; долгий выбор самой елки (елка должна выбираться долго, надо перебрать весь елочный завал, чтобы вернуться к первой елочке, которая сразу привлекла внимание); покупка елочных игрушек, доставание старых игрушек (часто сопровождающееся историко-семейными комментариями по поводу особо древних или любимых) и т. д. Красноречиво выглядит и временной план «елочного бытия»: елка обычно покупается задолго до Нового года, лежит на балконе, долго устанавливается и украшается (если сюда присовокупить покупку игрушек, гирлянд и само существование вопроса: «а не пора ли поставить елку?») — и может быть выброшенной уже 1 января. В этом контексте вполне закономерно романтическое осмысление «елочной» коллизии в песне Булата Окуджавы: «И в суете тебя сняли с креста, и воскресенья не будет»[6].

В эту же предновогоднюю топику входит также выбор подарков и изрядно разрушенная традиция писать новогодние открытки и рассылать их всем друзьям и знакомым[7]. Зато появилась новая традиция — читать гороскопы на наступающий год, коллекционировать сведения (из СМИ, рассказов знакомых и т. д.) о том, как должно встречать Новый год согласно восточным предписаниям, и передавать их своим знакомым.
В целом эти обряды подготовки к Новому году сформировались в советскую эпоху. Так, например, в романе Веры Пановой «Времена года» (1953), начинающемся и заканчивающемся празднованием Нового года, обстоятельно представлена предновогодняя топика: «Милый сердцу обычай — встреча Нового года. Население города Энска готовилось к этой встрече целый месяц. Громадный был спрос на елочные украшения...»[8] Кульминация предновогоднего «Нового года» — день 31 декабря. В этот день перебирание возможностей должно остановиться: новогодняя компания определена; все продукты и напитки куплены; елка украшена; подарки заготовлены; открытки отосланы, и т. д. Хорошо известно, что многие это делают в последний день, Вера Панова в своем романе добродушно подсмеивается над ними; судя по всему, по неписаным новогодним правилам советской эпохи все это должно быть сделано заранее: «Многие в последний час вспомнили, что забыли купить такие-то закуски и такие-то подарки, и кинулись исправлять свой промах»; «И кто-то, вспотевший и задыхающийся, бегает из магазина в магазин, ища фаршированный перец, как будто от этого перца зависит его жизнь»; «И какой-то чудак в франтовской велюровой шляпе тащит на плече длинную облезлую елку <...> Прохожие взглядывают на чудака с иронией...»[9]
Все хорошо знают, что самое радостное и приятное в праздновании Нового года — это приготовление к нему. Каким бы ни был суматошным и напряженным день 31 декабря, праздничное ощущение достигает в этот день апогея. Тонкость состоит в том, что ощущение праздника максимально именно до праздника. Праздничное предощущение фактически заменяет собой эмоциональное проживание. Ритуалы ожидания праздника, кажется, становятся значимее самого праздника[10].
Предощущение Нового года поддерживается и целым рядом массовых представлений, восходящих к традиционной инициальной магии (магии начала): «Как Новый год проведешь, таким он и будет»[11]; «С кем Новый год проведешь, с тем и весь год проведешь» (отсюда предписание: «Новый год надо встречать в семье») и т. д. К этим представлениям примыкает непреложный императив — праздновать Новый год. Величайшая редкость — человек, отказавшийся праздновать и улегшийся спать; у окружающих он должен вызывать сожаление и тревогу, ибо этим поступком притягивает к себе несчастье. Интересно, что Вера Панова, изображая канун Нового года и перечисляя тех, кто находится на своем трудовом посту в новогоднюю ночь (излюбленный мотив советской публицистики), тем не менее делает красноречивое добавление к описанию работы типографии: «И там же в типографии, в верстальном, на двух столах женщины из фабзавкома стелют скатерти и расставляют тарелки с бутербродами и стаканы для пива, чтобы в полночь наборщики, метранпажи и печатники, оторвавшись от работы, тоже чокнулись и поздравили друг друга»[12]. Еще один императив в отношении Нового года хорошо сформулировал бюрократ Огурцов (артист И.В.Ильинский) в фильме «Карнавальная ночь» (1960): «Товарищи, есть установка весело встретить Новый год». Фраза значима не только с точки зрения советского администрирования Нового года, но отражает и общие новогодние чаяния. Количество ритуальных предписаний и табу в последнее время резко увеличилось в связи с популярностью восточных календарей: есть надо то-то, одевать надо одежду такого-то цвета и т. д.[13]
Ритуальность ярче всего видна в экспозиционной части праздника, которая отчетливо структурирована в «проводах» старого года (здесь обрядово обязательна крепость напитков), в ожидании боя курантов и в самом моменте наступления Нового года. Далее продолжается новогоднее застолье, собственно говоря, мало чем отличающееся от других праздничных застолий. Отличие можно обнаружить скорее в степенях проявления праздничных смыслов, нежели в их новогодней специфичности. Мой коллега и друг М. С. Шулепов, которого я попросил поразмышлять о Новом годе, предложил такое толкование новогодней выпивки: «Как ты вгостях выпиваешь: выпить ли еще стопочку или уже поехать домой? В новогоднюю ночь можно выпивать сколько влезет... неограниченно, бесконечно… Тебя может завести куда угодно, нет никакой картины будущего...» Следует заметить, что эта неограниченность в принципе обладает дозволенностью, даже жены в новогоднюю ночь в основном поддаются ритуальным императивам и позволяют мужьям выпивать «без оглядки». Кажется, в Новый год, согласно каким-то глубинным установкам, все-таки необходимо напиться; часто «развязываются» даже завязавшие в старом году. Об императиве новогоднего пира говорит и ВераПанова: «Скоро попируем. Кто и не пьет — в эту ночь обязательно выпьет»[14]. После встречи Нового года друзья, знакомые и сослуживцы обычно задают друг другу ритуальный по своей обязательности вопрос: «Как встретили Новый год?» Интересно, что ответ типа «Спокойно, в кругу семьи...» самими отвечающими подается как-то извинительно, как нечто нарушающее некую норму празднования Нового года; иногда следует добавление: «Ты знаешь, даже и не напился...»
В новогоднюю ночь больше, чем в обычном застолье (для других советских праздников — тоже норма), смотрят телевизор, это уже кажется ритуально предписанным. Интересно, что в советское время новогоднее предощущение поддерживалось и даже продолжалось телевизионной практикой. Так, люди, севшие смотреть «Голубой огонек», были в напряженном ожидании: будет ли Алла Пугачева; сколько появится сатириков и т. д.[15] В новогоднюю ночь принято выходить на улицу и сливаться в праздничном порыве с толпой[16]. Наверно, эти «выходы», как и обычай передвигаться в течение ночи от компании к компании, являются специфически новогодними формами, обусловленными представлениями об общенародности праздника. Кроме того, Новый год — чуть ли не единственный праздник, когда желание танцевать возникает даже в собственной домашней обстановке. Характерна и повышенная готовность к флирту, даже невинному.
На фоне «обеспесенности» наших праздников, в новогоднюю ночь народ поет. Можно описать всенародное песенное знание, просто прогуливаясь по улицам и слушая, что доносится из окон или со всех сторон. При всем разнообразии застольных репертуаров, обусловленном множеством социальных и культурных факторов, в них все-таки есть некий общий пласт и просматривается некая общая для всех новогодних застолий коллизия. Собственно, она не является только новогодней и может возникнуть в любой другой застольной ситуации, но все-таки скорее в Новый год. Позволю себе остановиться на этой коллизии, в которой, на мой взгляд, проявляются некие общие закономерности ритуальной стратегии современного российского человека.
С этим явлением сталкивался каждый, кто бывал в русском застолье. В минуту должного опьянения обязательно возникает желание, причем спонтанно-коллективное, спеть «что-нибудь общее», что «все знают»[17], «наше, русское». Тут же извлекается из памяти классический набор русских народных песен: «Из-за острова на стрежень», «Степь да степь кругом», «По Дону гуляет...» и т. д. Как известно, практически все из них имеют литературное происхождение, т. е. фольклорны они только по бытованию[18]. Кстати, эти же песни в массовом восприятии российских людей символизируют как русский народный мелос, так и русскую душу. Ностальгическое стремление ощутить себя русским, слиться в некоем «коллективном этническом бессознательном» вполне понятно и совершенно естественно. Но вот в исполнении этой психологической задачи и таится подвох, любому русскому, правда, прекрасно известный, но могущий ввести в недоумение иностранца. Затянутая первой народная песня в лучшем случае допевается до третьего или же второго куплета. Дальше, как обнаруживается, текста никто не знает. Конечно, знатоки иногда находятся и дотягивают песню до конца, хотя эти героические усилия не имеют особого смысла, так как застолье явно охладевает к песне, после того как дружно проорало один или два куплета. Точно так же перебираются еще несколько песен, и снова обнаруживается их незнание. За этим чаще всего следуют стереотипные сетования: «Вот... наших русских песен не знаем» или «Мы, русские, своих песен никогда не помним». Кстати, эти реплики — не только и не столько проявление самокритики, сколько этикетные формулы этнической идентичности через самоуничижение, пристрастие к которому, как известно, — неотъемлемое качество русской психологии. Преодолевается это чаще всего следующим тостом или же просто опрокидыванием очередной стопки. Причем этнопсихологическая функция оказывается явно реализованной; на уровне самоощущения вербально-мелодическая формульность заменяется поведенческой: «Песен-то, елки, не помним, зато как пьем!»[19] То есть в конце концов цель достигнута, этническая идентификация состоялась, и можно заметить, что вся эта стандартная ситуация явно обладает некоторыми ритуальными характеристиками.
Но более-менее ясная функциональность исполнения народных песен во время застолья все-таки не объясняет пока того факта, почему они не поются, да и не помнятся до конца. Первое напрашивающееся объяснение: если описывать современную культурную ситуацию, то должно признать, что мы вообще стали петь меньше и наши застолья иногда проходят без какого-либо пения. Соответственно, и песни интенсивно забываются. В целом, очевидно, с этим фактором нужно считаться. Во-вторых, можно сослаться на общие механизмы запоминания. Так, ведь и классические тексты русской поэзии содержатся в нашей памяти чаще всего в форме одной-двух первых строк или же одного четверостишия. Оба объяснения вполне актуальны в нашем случае, но вряд ли исчерпывающи. В современном песенном быту отнюдь не все тексты подвергаются подобному «усечению». Речь идет в данном случае именно об исполнении (причем коллективном). Так, песни, выполняющие функцию социальной (и субкультурной) идентификации, обычно поются полностью, а если не вспоминаются целиком, то просто и не исполняются. Таким образом бытуют песни Булата Окуджавы и других бардов в интеллигентской среде поколений 1960-х — начала 1980 годов. Еще ярче эта закономерность проявляется в песенных репертуарах замкнутых социальных групп: экспедиции[20], туристические сообщества, студенческая группа, круг старых друзей и т. д.
В случае же наших «застольных» песен ни текстовая, ни сюжетная память не действенны. Так произошло с песнями типа «Хаз-Булат удалой», «На Муромской дорожке», «По Дону гуляет» и др. Вследствие каких закономерностей происходят эти метаморфозы? Можно предположить, что эти песни меняют свою функциональность: вместо функции эпической появляется лирическая. Нарратив отступает перед маркированной эмоцией, определяющей теперь прагматику текста: исполнение и восприятие. Для реализации лирической функции нет необходимости в сюжетном развертывании. В отвлечении от событийности, неизбежном, если песня воспринимается как лирическая, в ее эмоциональном строе выбирается некая доминантная тональность. Естественно, что это прежде всего тональность зачина. Интересно, что в некоторых «застольных» песнях запоминается и устойчиво воспроизводится не только начальный куплет или два, но и что-то из последующего текста. Так, в исполнении «Из-за острова на стрежень» стабильно «всплывает» куплет, начинающийся словами «Волга, Волга, мать родная», а в исполнении «Бродяги» часто как финальный (вне зависимости от того, сколько спето до этого) поется куплет:
— Отец твой давно уж в могиле,
Сырою землею зарыт,
А брат твой давно уж в Сибири,
Давно кандалами гремит.
Каждый из подобных редуцированных текстов — не песня в ее цельности, а знак песни, но интонационная, эмоциональная, семантическая емкость этого знака такова, что он способен суггестивно представить песню как таковую. Фактически мы сталкиваемся здесь с феноменом традиционной лирической формульности, правда, в не очень традиционных обстоятельствах. Спетые два куплета «Хаз-Булата» — это и есть лирическая формульная тема, отсылающая к эмоционально-семантическому полю песни, подобно тому как традиционная формула отсылает к традиции. Кроме того, если учесть факт функционального перевода эпической песенной формы в лирическую, то можно предположить, что эта формула не просто отсылает, а фактически концентрирует в себе все лирическое содержание эпического текста, т. е. заменяет ее собой. Именно поэтому ни у кого и не возникает сомнений в том, что эти песни «все знают». И их действительно все знают, но особым — суггестивным образом. Ситуация осложняется единственно тем, что нам доступны и могут быть известны эти тексты полностью (если мы заглянем в песенник или сборник «Песни русских поэтов»). Отсюда — рефлексия над собственным незнанием и как следствие — прибегание к спасительным формулам самоуничижения и прочим этническим стереотипам.
Актуален вопрос о составе этого «застольного» репертуара, а следовательно, о том текстовом минимуме, который необходим (в суггестивной перспективе) для достижения ритуальной цели. Понятно, что определить этот минимум с должной степенью объективности можно только путем социологического анкетирования. Тем не менее позволим себе выдвинуть предположения о его составе на основания метода интроспекции, обладающего в данном случае немалой достоверностью, так как с рассматриваемым феноменом каждый русский (по этническому или культурному самоопределению) человек сталкивался не раз, и не два, и не три.

Гипотетический «застольный минимум» выглядит, на мой взгляд, так[21]:
1)«Из-за острова на стрежень...». Источник: Д. Садовников, «Песня».
2)«Степь да степь кругом…». Источник: И. З. Суриков, «В степи».
3)«По Дону гуляет казак молодой». Источник: Д. Ознобишин, «Чудная бандура».
4)«По диким степям Забайкалья» («Бродяга»). Неизвестный автор.
5)«Ой, мороз, мороз...»
6)«Рябина» («Что стоишь, качаясь...»). Источник: стихотворение И. З. Сурикова.
7)«Мой костер в тумане светит...». Источник: Я. П. Полонский, «Песня цыганки».
8)«Хаз-Булат удалой». Источник: А. Аммосов, «Элегия».
9).«Шумел камыш...»
10).«На Муромской дорожке...»[22].
Именно исполнение этих песен, на мой взгляд, и способствует реализации этнопсихологической функции. Совершенно необязательно, что в каждом застолье поются все десять, но чаще все-таки несколько, а не одна; комбинации при этом могут быть самые разнообразные. Как было выяснено, в «ритуальном» исполнении эти песни редуцируются до одной-двух формульных тем. Эти формулы отсылают не только к песне, от которой они отделились и которую символически представляют. Их суггестивный потенциал гораздо значительнее. За каждой из формул скрывается особое эмоционально-семантическое пространство русской песенной традиции, а соответственно, пласт русского этнического менталитета и, если угодно, «стихия» русской души. Например, песня «По диким степям Забайкалья...» (вернее, исполнительский подбор вспомнившихся куплетов) воплощает семантический комплекс Сибири: дикость, первозданность природы — бродяжничество (бегство с каторги) — несметные богатства (золотоискательство) — сиротство — проклятье судьбы. Обозначив «Бродягой» «сибирский» вариант русского бытия, можно уже не вспоминать другие «сибирские» тексты: «Глухой, неведомой тайгою...», «Славное море, священный Байкал...» и т. д. Каждая из «застольных» песен обладает подобной суггестивной информативностью. «Из-за острова на стрежень…» — мир казачьей и разбойничьей вольницы; «Мой костер в тумане светит...» — русская «цыганщина»; «Степь да степь кругом...» — дорога, смерть, одиночество и т. д., и т. п. Таким образом, перебирая в застольном исполнении эти песни-формулы, мы создаем цепочку символов, за каждым из которых — целый песенный мир, т. е. пласт русского этнического менталитета. Может быть, искомый текст — это и есть ряд соположенных в исполнении формул-символов, представляющих в своей совокупности русское лирическое бытие. Другое дело, что это бытие существует лишь суггестивно, гипотетически, в перебирании его возможностей. Ведь в следующий Новый год песни опять не будут допеты до конца[23].
Может быть, и секрет нашей новогодней праздничной традиции — в некоем ритуальном перебирании возможностей, ожиданий и предощущений. И наша невероятная любовь к Новому году объясняется тем, что он не является ритуалом, а лишь колоссальным чаянием ритуала, или, вернее, — ритуалом чаяния ритуала[24].
А как Вы лично отмечали старый Новый год (14 января)?
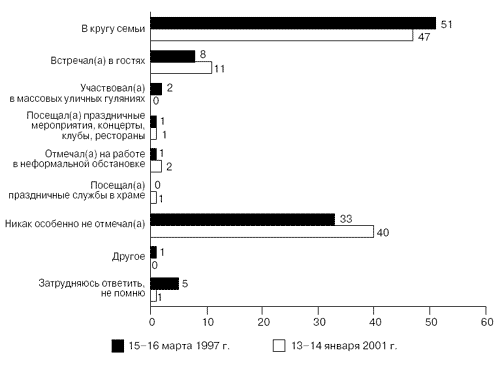
Опросы населения 15–16 марта 1997 г., 13–14 января 2001 г. © Фонд «Общественное мнение», 1997 г., 2001 г.
[1] Именно о невозможности идеологизации Нового года снят фильм «Карнавальная ночь» (1960).
[2] См. концепцию М. Элиаде: Элиаде М. Миф о вечном возвращении: Архетипы и повторяемость. СПб., 1998.
[3] Впрочем, трудность совмещения традиционной и современной новогодней обрядности во многом обусловлена нестыковкой календарей. Традиционная новогодняя обрядность привязана к рождественскому циклу, в результате Новый год опережает святки, а не находится внутри святочного времени, как было раньше. Поэтому обращение к святочным обрядовым формам, столь популярное сегодня, никак не влияет на Новый год. Интересно, что в 1970–1980-е годы деревенские жители старшего, еще дореволюционного, поколения советский Новый год не считали праздником и отмечали только Рождество.
[4] Новогодние компании не всегда совпадают с кругом значимых для нас в данный момент друзей. Иногда друзья, с которыми мы празднуем Новый год, только в Новый год и возникают на нашем горизонте.
[5] Я не утверждаю, что так происходит всегда, на новогодних столах появляется достаточное количество изысков. Кажется только, что гипотетически их «перебрано» гораздо больше. Мойколлега М.С.Шулепов заметил, что, когда в повседневности речь заходит о каких-либо дорогих или экзотических спиртных напитках, частенько возникает устойчивая формула: «К Новому году я, пожалуй, куплю».
[6] Существует множество попыток спасти елку как символ. Некоторые держат ее до православного Рождества (совершенно необязательно при этом знать о ее рождественских смыслах); иные дотягивают до Старого Нового года и даже до Крещения. У автора этой статьи елка однажды стояла до середины февраля и даже пустила корни и зеленые побеги.
[7] В «открыточный ритуал» входит получение и чтение открыток, а также перебирание с комментариями, часто относимое уже к 1 января.
[8] Панова В. Евдокия. Сережа. Валя. Володя. Времена года. Л., 1960. С. 245.
[9] Там же. С. 246.
[10] Эти психологические механизмы очень хорошо видны в детском восприятии праздников, не только Нового года. Детей очень часто постигает после праздника (или во время его) разочарование — он не оправдал их ожиданий. Можно предположить, что «праздничный утопизм» — одна из существенных особенностей психологии российского человека.
[11] К этому представлению могут притягиваться народные приметы. Так, например, моя мама, уроженка Торопецкого района Тверской области, считает, что на новогодний стол нельзя подавать грибы — весь год «грибиться» (т. е. плакать, от «грибы» — губы) будешь.
[12] Панова В. Указ. соч. С. 249.
[13] Конечно, в основном эти восточные новшества воспринимаются в игровом ключе, они придают формальному плану праздника некоторое разнообразие (теперь легко решается проблема подарков — дарятся изображения животных, символов наступающего года), но при этом резко расширился сам диапазон новогодних возможностей. На этом фоне тот факт, что восточный Новый год совсем не совпадает с европейским, никого не смущает.
[14] Панова В. Указ. соч. С. 553. В современной повседневности действенна скорее иная формула: «Кто и не напивается — в эту ночь обязательно напьется».
[15] Сейчас оценка новогодних передач более близка к обобщенной: в целом интересная или нет передача. Раньше было понятно, что в целом «Голубой огонек» интересным быть не может, и его качество определялось количественно: сколько кумиров появилось в программе.
[16] Уже упомянутый М. С. Шулепов на мой вопрос о присутствии карнавального начала в праздновании Нового года отозвался так: «Среди народа постоял, нажрался, петарды покидал, песни поорал — какой это карнавал?!»
[17] В ситуации застолья очень часто сталкиваются (иногда довольно резко) различные песенные установки: на песни, которые «все знают», и на песни индивидуального или группового репертуара. Естественно, это столкновение подогревается наличием разных социокультурных, тем более возрастных, групп.
[18] В обычном «застолье» исполнение исконной народной песни практически исключено; возможно оно лишь в сообществе фольклористов, да и то близких к движению фольклорных ансамблей. В лучшем случае народная песня в неспециальной аудитории может восприниматься как нечто экзотическое. Тем более что для среднестатистического современного уха фольклорная манера исполнения устойчиво ассоциируется с «воем».
[19] «Питейное богатырство», как известно, — один из основных поведенческих стереотипов, идентифицирующих русского человека. Так, например, английский знакомый автора данной статьи, Саймон Гэйган, довольно долго живший в России и хорошо знающий русский язык, рассказывал о постоянных коллизиях, которые неизбежно сопровождали его поездки
в российских поездах. Как только попутчик узнавал, что перед ним сидит иностранец, тут же из портфеля (чемодана, сумки et cetera) извлекалась бутылка и начиналась демонстрация этнических стереотипов в форме состязания в питье. Опять же дело почти всегда доходило до «Из-за острова на стрежень». Впрочем, для данного случая следует учесть и репутацию англичан в русском массовом сознании. Ср. обмен репликами повествователя с Максимом Максимычем в «Герое нашего времени» М. Ю. Лермонтова:
— А все, чай, французы ввели моду скучать?
— Нет, англичане.
— А-га, вот что!.. — отвечал он, — да ведь они всегда были отъявленные пьяницы!
(Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. М., 1958. Т. 4. С. 39). В повести Н. С. Лескова «Левша» трагическое пари «кто кого перепьет» герой заключает с «аглицким полшкипером».
[20] Автору данной работы хорошо известны два экспедиционных репертуара: петербургских археологов и фольклористов. И в том, и в другом случае с феноменом «Из-за острова на стрежень» мне пока сталкиваться не приходилось. Характерно, что народные песни часто попадают в эти репертуары, при этом подвергаясь функциональной трансформации.
Так, жестокий романс «На Муромской дорожке», явно принадлежащий кругу «Из-за острова на стрежень» и постоянно усекающийся, оказавшись в экспедиционном репертуаре фольклористов, старательно исполняется ими до конца. Сходным образом у археологов бытует украинская дума о Сагайдачном или же песни типа «Средь высоких хлебов затерялося» (последняя была популярна в кругу московских археологов в начале 1990-х годов).
[21] Приношу глубокую благодарность В. В. Головину и Е. В. Кулешову, с которыми обсуждался этот репертуарный список.
[22] Две последние песни в списке являются типичными «жестокими романсами», говорить об авторстве по отношению к этому жанру не принято.
[23] Кстати, «русский народный» песенный компонент был обязателен и для «Голубых огоньков»; там песни пелись до конца, хотя репертуар изрядно отличался от «застольного», многие из «застольных» песен вели полуподпольное существование в советское время (например, «Шумел камыш..»).
[24] Я хотел закончить статью размышлением о первом января, но все-таки решил «убрать» его в сноску по причине излишней субъективности ощущений. Первое января кажется неким провалом, ощущаешь, что все ускользнуло и ты невероятно устал. Дело явно не только в количестве выпитого накануне. Бывает это и в другие дни года, но как-то уходит по-другому. Похмелье первого января — тоже какое-то особенное, и не только потому, что оно всенародное. Кажется, чем сильнее было предощущение праздника, тем тяжелее похмелье первого января. Может быть, первое января страшно от того, что уходит ритуальная предписанность; возникает проблема выбора, что делать, куда идти. А может быть, главное в том, что исчезает то праздничное перебирание возможностей, которое и составляет суть нашей новогодней обрядности. Символ первого января — остатки салатов, которые доедаются, выпивки, которые допиваются... А даже если покупается новый алкоголь, то к выбору напитков мы уже не относимся так, как относились к предновогоднему выбору. Понятно, что и первого января можно пойти в гости, и могут позвать в разные места, и опять же необходимо выбрать, но и этот выбор оказывается лишен той предновогодней привлекательности. И мы склонны чаще всего вообще ничего не выбирать. Может быть, дело в том, что Новый год для нас — единственный Праздник и от него мы ожидаем слишком много? После Нового года остается какая-то опустошенность. К осени мы забываем о том, что это опустошение происходит каждый год, и опять начинаем вожделеть свой самый любимый праздник.
