Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Россия — европейская страна?
Спор с Мартином Малиа[*]
Мы ожидали появления этой книги[1] так долго, что едва не потеряли надежду ее увидеть. Мартин Малиа задумал ее и написал первый вариант в 1962 году. Многие свои заветные идеи он высказал уже тогда. С тех пор в течение четверти века издатели говорили потенциальным рецензентам: «Готовьтесь, книга вот-вот выйдет», и те уже брались за перо. Но книги все не было и не было. Вместе с некоторыми другими счастливцами мне довелось слушать лекции, которые Малиа в семидесятых годах читал в Париже в Коллеж де Франс и Высшей школе социальных исследований. Он появлялся перед аудиторией с пустыми руками, без единой бумажки, и говорил два часа подряд, не прерываясь ни на секунду. То было великолепное торжество интеллекта. Когда знакомишься с некой исторической концепцией, всегда хочется отыскать какой-нибудь факт, не укладывающийся в рамки этой концепции и ее опровергающий. С Малиа этот номер не проходил: его логика была столь безупречной, теория — столь выношенной и столь тщательно продуманной, что любой факт, приведенный оппонентами, прекрасно вписывался в нее и лишь подтверждал ее прочность. Почему же Малиа так долго не публиковал свою книгу? И разве не жаль, что читатели все это время были лишены возможности с ней познакомиться? С одной стороны, конечно, жаль, а с другой — Малиа поступил совершенно правильно. Во-первых, за минувшие годы он успел проверить свою концепцию на студентах и обсудить ее положения с коллегами. «Россия глазами Запада» оказалась, таким образом, итогом всей жизни ученого. А во-вторых и в главных, Малиа поступил правильно, потому что сумел дождаться конца истории, логической развязки — крушения коммунизма, или, говоря иначе, возвращения России в русло общей истории человечества.
Отступление
Да будет мне позволено сделать здесь небольшое отступление. Есть люди, гордящиеся тем, что «предсказали крушение коммунизма». Я, например, знавал одного полковника, превосходного человека, который предсказывал это самое крушение ежегодно двадцать лет подряд. В конце концов жизнь подтвердила его правоту, но ни один серьезный историк, насколько мне известно, его примеру не следовал, и вот почему: есть вещи, которые не заслуживают права на существова ние, однако это вовсе не мешает им существовать сколь угодно долго. Коммунистический режим был утопией, исхитрившейся сделать саму свою утопичность источником бесконечного долголетия. Реальности трудно бороться с ирреальностью, разуму трудно спорить с абсурдом. Те, кто наблюдали за существованием Советского Союза, прекрасно видели, что тамошний режим постепенно загнивает, однако видели и то, что это гниение не имеет точно отмеренных сроков и заранее намеченных пределов. Советский Союз мог загнивать еще очень долго. Точно так же, например, обстоит дело сейчас в последней стране, где еще сохранился коммунистический режим в чистом виде, — в Северной Корее. Я готов объявить во всеуслышание: корейский режим падет. Я не готов только сказать, когда именно; ведь обстоятельства, позволяющие ему выживать, могут сохраняться долго, и никакой серьезный историк не возьмется сказать, какие из этих обстоятельств исчезнут и когда конкретно это произойдет. Коммунистический режим мог и должен был бы рухнуть после смерти Ленина, после нападения Гитлера на Советский Союз, после смерти Сталина — но он мог бы, пользуясь попустительством Запада, просуществовать еще довольно долго и после смерти Брежнева. Этого не случилось, и историки — если они настоящие историки — могут объяснить, почему это случилось, только теперь, задним числом. Случилось так, что Малиа смог довести свое повествование до даты, значащей очень много для истории России и всего мира, — до 1991 года. Он смог придать своему труду классическую форму, определяемую словами «упадок и разрушение»[2]. Ему повезло: реальный ход событий подтвердил рассуждения советологов о саморазрушительном механизме, лежавшем в основе коммунистической системы.
Впрочем, коммунистический эпизод в книге Малиа — отнюдь не главный. Напротив, Малиа считает его случайностью — объяснимой, но не неизбежной для многовековой истории России. Главная цель книги — критический обзор концепций, оценок, интерпретаций, к которым начиная с XVІІІ столетия прибегали мыслители европейского Запада, рассуждая о России. Таким образом, Россия рассматривается здесь извне, с западной точки зрения. Однако поскольку все эти различные оценки неразрывно связаны с историей того самого Запада, которому они принадлежат, книга Малиа оказывается в конечном счете историей не только России, но и всего западного мира. Перед нами река со множеством притоков. Начавшись скромно, с разбора частных фактов, повествование постепенно превращается в размышление об истории Нового времени в целом. В этом отношении книга Малиа повторяет интеллектуальный путь самого автора. Историк начинает с частностей, но в конце концов, если он настоящий профессионал, выносит суждение обо всей мировой истории. Мартин Малиа дерзнул пойти по этому пути, дерзнул поставить перед собой задачу поистине грандиозную. Малиа открыто называет литератора, послужившего ему образцом, — это Токвиль. С Токвилем автора «России глазами Запада» роднят хладнокровная интонация, чистый и простой стиль, четкая логика аргументации. А еще — умение писать так, чтобы каждая страница была достойна медленного прочтения и наводила на размышления.
Теперь обратимся к тексту книги и попытаемся сформулировать ее основную мысль.
Мысль эта следующая: не существует никакой сущности России, или, говоря иначе, «вечной России», которая по самой своей природе была бы противопос тавлена Западу или Европе. За три столетия Россия много раз меняла свой вид, представала в самых разных обличьях. Точно так же не существует единого целого под названием Европа или Запад. Запад многолик; его восприятие России почти всегда было многообразным и противоречивым. В один и тот же период Англия, Германия и Польша смотрят на одну и ту же страну, Россию, по-разному. Все это имеет самое непосредственное отношение к вопросу о том, как оценивать коммунистический период в истории России. Следует ли считать его одним из проявлений вечной «русскости» или же, как полагает Малиа, в нем следует видеть несчастную случайность, которая заставила Россию изменить самой себе, сбила ее с пути, извратила ее сущность? Совершенно очевидно, что Малиа здесь вступает в спор со своим старым интеллектуальным оппонентом — Ричардом Пайпсом; Пайпс, тоже замечательный исследователь российской истории, придает, по мнению Малиа, слишком большое значение национальной традиции и слишком малое — тому насильственному слому, которому подвергается эта традиция под воздействием коммунистической идеологии.

Решение этого вопроса требует подхода исторического, а значит хронологического. Разделить исследуемый отрезок на периоды не составляет труда. Таких периодов Малиа насчитывает четыре: от Петра Великого до Венского конгресса; от 1815 года до реформ Александра ІІ; от 1856 года до Октябрьского переворота; от 1917 года до крушения коммунизма в 1991 году. В каждый из этих периодов Россия представала Европе в ином облике.
Гром победы: Полтавская битва
Победа в Полтавской битве (1709) открыла России выход на европейскую политическую сцену. Заметим, что именно к этому времени понятие «Европа» почти повсеместно пришло на смену понятию «христианский мир», ставшему малоупотребительным и исчезнувшему из международных договоров. Попытка Франции завоевать господство над миром провалилась, и в Европе была создана новая политическая система, основанная на согласии между великими державами. В этой новой системе, просуществовавшей до 1914 года, Россия неожиданным образом оказалась одной из главных участниц, стоящей наравне с Францией, Англией и Австрией и выше, чем Испания или Голландия. Отчего это государство, известное гораздо меньше, чем, например, Османская империя, государство с дурной репутацией, государство, о котором путешественники XVІІ века отзывались как о стране удручающе варварской, с такой легкостью было включено в число наиболее могущественных европейских держав? Этому способствовали несколько обстоятельств. Во-первых, по крайней мере три из этих держав — Пруссия, Австрия и Англия — не возражали против значительного территориального расширения России по той причине, что это оправдывало их собственные завоевания. Россия не упускала возможности разжиться чужими землями, но и эти державы также не дремали. Невыгодно все это было только Франции, чьи традиционные союзники, Швеция и Польша, слабели и лишались своих владений.
Сыграло свою роль и другое обстоятельство — установление в России более цивилизованного политического режима. При Иване Грозном Россия представляла собой государство с военизированным самодержавным строем азиатского, или, как говорили в старину, татарского образца; все подданные этого государства были, по сути дела, рабами царя. При Петре Великом режим сделался еще более суровым, а рабство — еще более абсолютным, однако на сей раз правление приняло облик более европейский. Чтобы иметь возможность постоянно держать под ружьем двухсоттысячную армию (превосходящую численностью армию Франции), Петр был вынужден упорядочить административную систему страны и ее экономику. По той же причине он, впрочем, ужесточил крепостное право. Однако такая система при всей ее безжалостности казалась европейцам привычной и не вызывала особых нареканий. В конце концов в Швеции и Пруссии монархи также компенсировали слабость своих держав принудительной мобилизацией всех ресурсов. Жестокость нового Старого порядка в России представлялась всего-навсего результатом отставания. В этом месте своих рассуждений Малиа вводит очень важное понятие «градиента»; всю Европу он изображает как некий ступенчатый склон, спускающийся с запада на восток. На самой высокой (самой «современной») ступени находятся Англия и Франция, на более низкой — германские страны, еще ниже — Польша и Венгрия, наконец, последнюю ступень занимает Россия. Однако вся эта лестница принадлежит к Европе, и Россия, пусть даже занимая самый нижний ярус, все-таки остается, в отличие от Турции, Персии или Китая, государством, устроенным по европейскому образцу. При Екатерине русскому правительству удалось приучить около сотни тысяч семейств к европейской одежде, нравам и манерам; европейцы имели дело только с этими русскими, вкусившими плодов цивилизации (дипломатами и офицерами), и потому признавали за русским дворянством право считаться составной частью европейского дворянства, хотя и отстающей от более передовых его отрядов.
Впрочем, одна часть Европы — та, что исповедовала идеи Просвещения, — пошла еще дальше. Философы-просветители утверждали, что Россия не просто «такая же», как другие; нет, она «лучше» других. Впервые об этом заговорил Вольтер в «Истории Карла XІІ»: тщеславному и пустому завоевателю-шведу здесь противопоставлен русский законодатель, который приобщает подданных к цивилизации. Екатерина расширяет состав академий и университета, приглашая ученых-немцев, которых легче нанять и которым можно платить меньше, чем французам, во множестве подвизающимся на службе у прусского короля Фридриха ІІ. Дидро, Даламбер и даже мудрый Блэкстоун принимают всерьез законодательные проекты Екатерины и превозносят в ее лице Северную Семирамиду. Эти восторги объясняются не знакомством с реальной Россией, а протестом против неразумного устройства западных государств при Старом порядке. Впервые Россия выступает в роли страны, в которой якобы обрел воплощение идеал разумного государственного устройства; те же иллюзии расцветут пышным цветом после 1917 года. Екатерина умело поддерживает восхищение своей страной. Нападая на католическую церковь в Польше с тем, чтобы облегчить завоевание этой страны, подогревая недовольство тех ее жителей, которые исповедуют православие или протестантизм, она, к восторгу французских просветителей, утверждает, будто главная ее цель — защита свободы совести. Руссо оказывается едва ли не единственным, кто возвышает голос против этой политики. Между тем обстановка постепенно меняется. Если раньше просветители не видели иного способа создания разумного государственного устройства, кроме воли просвещенного монарха (или деспота), то Польша пытается отыскать новый способ реформирования: поляки пытаются преобразовать дворянскую анархию в нечто вроде современной республики. Этот восточный извод якобинства страшит старинные монархии и еще больше сближает их с Россией. И ничто не сближает их сильнее, чем общее преступление — раздел Польши. Итак, царствование Екатерины оканчивается в атмосфере контрреволюционной «реакции». Однако лишь только на трон восходит Александр, как вся Европа поистине теряет рассудок от любви к русскому самодержцу и объявляет его идеальным представителем рода человеческого. Ведь он избавил Европу от тирана Бонапарта, он даровал Польше конституцию. Бентам восхищается Александром, Джефферсон украшает свой кабинет его бюстом, г-жа де Сталь отправляется в Россию, чтобы вдохнуть там «воздух свободы».
Восточный деспотизм
В 1815 году начинается новый период. Если прежде Россия имела репутацию страны просвещенного деспотизма, то теперь она слывет страной «деспотизма восточного». Внезапно обнаруживается, что в ней проживают сорок миллионов человек и что это самая могущественная держава на континенте. Кстати, во время Венского конгресса Россия решила притвориться куда менее сильной, чем она была в действительности: чтобы увеличить причитавшуюся ей долю, российские дипломаты уверяли, что граница России проходит по Уралу. Это утверждение, нимало не соответствовавшее действительности, узаконивало представление о России как о европейской стране; в эту пору оно впервые было зафиксировано в международных договорах. Это вызвало тревогу в странах старой Европы и послужило основанием для сближения Англии, Франции и Австрии. Однако недоверие, внушаемое Россией, на самом деле имело более глубокие корни: в ту пору, когда она сделалась главной защитницей всех старых монархических режимов, режимы эти утратили доверие народов. Усомнившись в легитимности российского государственного строя, европейцы внезапно осознали, что Россия принадлежит к иной цивилизации. В Европе либеральное мнение почти повсеместно одерживает победу, во Франции свершается революция 1830 года, в Англии происходит реформа избирательной системы, а Россия в это время самым безжалостным образом подавляет восстание в Польше. В сравнении с XVІІІ столетием европейцы решительно меняют свое отношение к России. Кюстин, Мишле, Уркхарт, Маркс рисуют Россию самыми черными красками. Более глубокими размышлениями делится с читающей публикой Гизо; он утверждает, что История — это процесс, который, посредством создания и укрепления среднего класса, ведет к установлению конституционной свободы; имя этому процессу — цивилизация. Отсюда следует, что Россия — страна, чуждая этому цивилизующему процессу. В России даже находится достаточно независимый мыслитель, осмеливающийся подтвердить этот диагноз, — Петр Яковлевич Чаадаев.
Впрочем, либеральная точка зрения — не единственная, какая существует в эту эпоху. В романтической Германии, ставшей великой лабораторией мысли, философы вырабатывают более гибкую концепцию Sonderweg, «особого пути», — концепцию тем более влиятельную, что, стремительно спустившись по «лестнице» с запада на восток, она довольно скоро приживается и в России. Эта концепция противопоставляет понятию цивилизации понятие культуры, причем под «культурой» разумеется духовное отечество, ограниченное пределами той или иной страны. Демонстрируя скрупулезность настоящего ученого и удивительное умение обобщать, Малиа исследует разные оттенки понятий «культура» и «романтизм», — понятий, которые наполняются новыми смыслами, переходя от Гердера к Канту, от Канта к Гегелю, а от Гегеля к Марксу. Романтизм, как его понимает Малиа и каким он существовал накануне революций 1848 года, — это смесь философии, сильно окрашенной гностицизмом, историософии и фаустовского бунтарства. Последнее — результат усвоения политического наследства эпохи Просвещения. Исторический канон Гизо претерпевает изменения и усложняется. Теперь цивилизация, иначе говоря, Европа, предстает как смешение разных традиций: христианской, римской и германской. Центр Европы смещается от французско-английского пространства в сторону Священной римской империи германской нации. «Европа» как целое — постепенно вызревший плод уникального исторического опыта. Но можно ли в таком случае сказать, что Россия — часть Европы? Пройдемся по списку главных признаков «европейскости»: средневековая церковь и империя? нет, ничего подобного Россия не знала. Феодализм и рыцарство? нет. Возрождение и Реформация? нет. Таким образом, нет никаких оснований считать Россию частью Европы. Кто в описываемую эпоху выступает «за» Россию? Кроме прусских и австрийских дипломатов, у которых имеются очевидные причины поддерживать Россию, на ее стороне стоят лишь немногие крайние консерваторы, довольные тем, что обнаружили страну, не затронутую Просвещением, и немногие же «славянские» националисты, уповающие на то, что Россия защитит их от германского влияния. Даже Мицкевич иногда называет Польшу и Россию «двумя сестрами».
Все это не мешает Николаю І совершенно искренне считать себя вполне европейским монархом. Он убежден, что Европа осталась такой же, какой была во времена его бабки. Не он предал Европу, а Европа, изменившись, предала его, Николая. Между тем, если исходить из старых критериев, можно сказать, что в его царствование Россия перешла из разряда стран, только что приобщенных к цивилизации, в разряд стран «цивилизованных». Русский язык развился и усовершенствовался настолько, что на нем могла быть создана великая литература. В конечном счете именно эта великая литература, европейская и современная, становится питательной средой для зарождающейся интеллигенции, которая с самого начала считает своей главной целью борьбу с существующим строем. Россия, таким образом, вступает в свою эпоху кризиса Старого порядка, причем вступает в самых неблагоприятных условиях. В самом деле, перемены, происшедшие в Европе, обнажают отставание России во всех сферах, причем догнать Европу теперь оказывается гораздо труднее, чем во времена Петра Великого, ибо догонять нужно не только в том, что касается государственного устройства, но и в том, что касается устройства общества в целом. Между тем «общества» как такового в России не существует; о «гражданском обществе» применительно к России говорить не приходится. Большую часть населения по-прежнему составляют крепостные крестьяне, а точнее сказать, рабы. Именно в эту пору русская интеллигенция, ощущающая свою беспомощность, решает, что отставание России от Европы — это не недостаток, а достоинство, ибо нынешнее отсталое состояние России структурно более соответствует социалистическому будущему Европы. Герцен отыскивает у гегельянцев «алгебру революции»; Бакунин открывает формулу, которую впоследствии возьмут на вооружение большевики: «дух разрушения есть дух творчества».
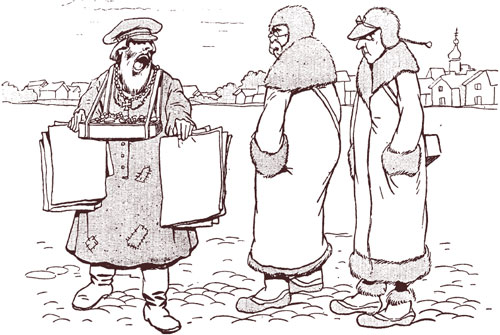
После 1848 года Европа начинает относиться к России с особым ожесточением. Малиа близок к тому, чтобы счесть Крымскую войну своего рода идеологической агрессией против России; впрочем, Николай І этой подоплеки не понял. После поражения России в Крымской войне наступает третий период в отношениях России и Запада; возникает третий образ России: обычная страна, страна, каких много.
Страна, каких много
Выбора у России нет. Если она хочет выжить, она обязана провести реформы. В шестидесятые годы в России совершается вторая «революция сверху». Происходит отмена крепостного права, создается новый суд, новая система воинской повинности. Реформы эти в точности воспроизводят те, какие были осуществлены в Пруссии при Наполеоне. Россия по-прежнему отстает от Европы на полвека. При этом Российской империи грозит опасность, которой чревато реформирование самодержавного режима и о которой совершенно справедливо предупреждал еще Токвиль. Левое крыло общества грезит революцией, и, опасаясь ее, правительство не доводит до конца даже те — недостаточно радикальные — реформы, какие задумало. Все же кое-что сделать удается. Открываются школы, начинает понемногу развиваться экономика; при Александре ІІІ Россия так и не становится конституционной монархией, но реформы все-таки продолжаются. Европа постепенно привыкает считать Россию ответвлением своей цивилизации. Европейские банкиры охотно вкладывают деньги в российскую экономику.
Между тем Европа также не стоит на месте. Она разделяется на две несхожие зоны: в одну входят Франция и Англия, государства с прочно установившимся парламентским строем, в другую — государства Центральной Европы: Австрия и германские страны. Бисмарк — русофил, усвоивший либерал-консервативные уроки Наполеона ІІІ (всеобщее избирательное право, укрепление национального единства, социальная защищенность). Соединив русский и французский опыт, Бисмарк создает режим, который Малиа называет «легитимистским бонапартизмом». Две разные Европы, англо-французская и австро-германская, смотрят на Россию по-разному. Для либеральной Европы Россия — не более чем предмет исследования. Уоллес в Англии, Леруа-Болье и Рамбо во Франции рисуют спокойную, нюансированную, документированную, «объективную» картину России. Лично у меня наибольшее восхищение вызывает Леруа-Болье, который решил стать для этой страны разом и Тэном, и Токвилем; впрочем, не следует забывать, что Леруа-Болье был сторонником русско-французского союза и своей книгой готовил умы к приятию этого союза. Однако если прочесть его повнимательнее, становится понятно, что, несмотря на всю учтивость его тона, иллюзий насчет России он не строит. Что же касается европейских социалистов, то их отношение к России весьма двусмысленно: социалисты ненавидят российское самодержавие, но в то же время надеются, что из России может воссиять яркий свет — или, по крайней мере, что в ней может разгореться большой пожар. Эсхатологические чаяния русского народничества отчасти разделяет Карл Маркс. Наконец, поскольку Европой овладевают националистические страсти, Россия предстает также в качестве «нации» — еще одной нации на континенте, который разделяется на соперничающие друг с другом союзы национальных государств. Система, основанная на согласии великих держав, доживает последние годы.
Самое оригинальное место занимает Россия в культуре конца века. Она становится, говоря сегодняшним языком, одной из главных «участниц культурного процесса». Великие русские романисты и композиторы, русский балет и русская живопись не только достигают европейского уровня, но, впервые в истории, начинают оказывать влияние на западную художественную продукцию. Различия между Россией и другими европейскими странами сглаживаются. Наступает эпоха интереса к «русской душе»; европейцы стремятся познать ее и смягчить с ее помощью свой рационалистический позитивизм. Особенным успехом эта тема пользуется в Германии, потому что русский «особый путь» перекликается с «особым путем» немецким. Рильке мечтает об «иоанническом человеке», Ницше принимает сторону России против «английских идей» и американских торгашей. Мёллер ван ден Брук в своем русофильском почвенничестве заходит так далеко, что от его теорий рукой подать до идеологии нацизма. Создается своеобразный интернационал иррационалистов и антимодернистов. Вообще говоря, Малиа мог бы остановиться более подробно на отвратительных сторонах идеологии, которая господствовала в России накануне Первой мировой войны. Мне эта идеология представляется такой чудовищной, что порой я едва ли не радуюсь приходу к вла сти большевиков, поскольку он положил предел ее господству. Вообразите только Россию, выигравшую мировую войну, завоевавшую половину Европы, получившую, как обещали ей союзники, в безраздельное владение всю Польшу, Балканы и Константинополь: в результате мы, возможно, имели бы дело с той смесью нигилизма, крайнего национализма, расизма и антисемитизма, какая впоследствии возникла в нацистской Германии, — и весь этот кошмар в масштабах целого континента, да вдобавок освященный религией!
Начавшаяся война застала Европу разделенной на весьма странные коалиции. Идеологическая и политическая близость отошла на второй план: теперь крайний Запад и крайний Восток заключают союзы лишь исходя из соображений выгоды и безопасности. Война приводит к падению последних монархических режимов старого образца: эти хрупкие образования не могут устоять под напором дикой силы новых армий. Образовавшийся в результате политический вакуум заполняется в России идеологической силой — партией большевиков.
В коммунистическом обличье
Наступает четвертый период — Россия в коммунистическом обличье. В пересказе этой части я буду более лаконичен, поскольку этот период известен лучше, а мнения Малиа, касающиеся коммунистической России, менее оригинальны и менее бесспорны. Малиа открывает эту часть своей книги пространным рассуждением о природе социализма. Социализм рождается в XІX веке как отрицание целого ряда явлений, в частности демократии и индустриализации. Он развивается в разных направлениях, но сутью его неизменно остается утопия: утопия демократии, организованной не так, как демократия уже существующая, утопия индустриальной системы, устроенной иначе, чем промышленность, уже функционирующая. Гениальность Маркса заключается в том, что он сумел выдать эсхатологическую доктрину (отличавшуюся от прежних только своим светским, а не религиозным характером) за доктрину строго научную. Малиа убежден, что в сочинениях Маркса и в самом деле содержится все то, что отыскали в них его читатели. Интерпретация марксизма, предложенная немецкими социал-демократами, как Каутским, так и Берштейном, имеет право на существование. Но точно такое же право на существование имеет и интерпретация Ленина. Тоталитарная политическая партия, роль интеллигенции в создании революционной теории, революционный потенциал крестьянства — все это есть уже в «Коммунистическом манифесте» 1848 года. Поэтому, говорит Малиа, неверно считать ленинизм выражением неевропейской сущности России: ленинизм также имеет европейское происхождение. «Истинного социализма» не существует: он обречен оставаться утопией, даже если социалисты приходят к власти. Коммунизм — не более чем призрак, который бродит по миру.
Начиная с этого времени говорить о сколько-нибудь постоянном и едином образе России в глазах европейцев становится уже невозможно. В зависимости от политической обстановки и политических убеждений европейцы попеременно (а порой и одновременно) видят в России то средоточие всех надежд, то источник всех страхов. Что же на самом деле происходит в России? От Ленина до Сталина события развиваются по одной и той же логике. Сталин доводит до конца предприятие, имеющее целью, разумеется, построение не социализма — столь же недостижимого, что и в начале пути, — но государства «некапиталистического». Европу, а точнее противоположные политические партии, существующие в Европе, это приводит, смотря по убеждениям, либо в восторг, либо в ужас. Возникновение и укрепление нацизма осложняет ситуацию, ибо теперь людям предстоит выбирать меньшее из двух зол. Нацизм и коммунизм связаны между собою тесно, как сиамские близнецы. Малиа считает, что и тот и другой являются порождениями демократии, а еще точнее — Французской революции, ибо именно ей обязаны своим появлением на свет национализм и социализм. Участие широких народных масс в Первой мировой войне способствовало неограниченному развитию демократии, которое, в свою очередь, породило крайнюю форму национализма — нацизм и крайнюю форму социализма — большевизм. Малиа разворачивает перед читателем целый веер несостоятельных теорий, в которых выразилась реакция на эти события: прогрессизм, национал-большевизм, троцкизм. Поскольку западные демократии так и не смогли определить, кто для них является более страшным врагом, Сталин подписал пакт о ненападении с Гитлером. Затем последовали война, мнимый союз Советской России с западными странами, раздел Европы, вполне реальная холодная война, мнимая разрядка, загнивание системы, финальный крах... Всем этим событиям и процессам посвящены глубокие и чрезвычайно интересные главы, которые не перескажешь в короткой рецензии. К тому же, хотя эта часть книги изобилует тонкими замечаниями и оригинальными разборами, она уводит нас в сторону от главной темы труда Малиа — отношений России и Европы — и погружает в общую историю Новейшего времени. Основной тезис Малиа состоит в том, что семьдесят с лишним лет коммунистического правления в России — не что иное, как историческая случайность, что, хотя из-за определенного стечения обстоятельств коммунистическую утопию попытались осуществить именно в России, корни ее имеют общеевропейскую природу. В конце концов царство лжи разрушилось, коммунизм ушел в небытие. Россия же, хотя и обеднела материально, интеллектуально, духовно, по-прежнему жива. Европейская система приняла тот же вид, какой имела до катастрофы, только различия между Россией и остальными странами сделались еще более резкими. Если Россия хочет продолжать существовать, ей не остается ничего иного, кроме как еще раз сделать тот же выбор, какой она уже делала при Петре Великом и Александре ІІ, — начать европеизироваться. Постепенно она, по примеру Англии или Франции, избавится от своих империалистических замашек, которые никогда, в сущности, не отличались ни по природе, ни по силе от империалистических замашек англичан и французов; просто-напросто это случится лет на пятьдесят позже, чем в Центральной Европе, — запаздывание, характерное для всех процессов, происходящих в России. Что же касается «призрака» социализма или коммунизма, он, кажется, близок к смерти, однако никто не может гарантировать, что это «великое отречение» от старого мира не повторится в каком-нибудь другом уголке земного шара и что «старый крот» не вознамерится в очередной раз покончить с современным миром, под который он подкапывается, и не изобретет для этого некий новый мистический рационализм.
Чужие?
Я уже сказал, что каждая страница книги Малиа пробуждает множество размышлений. Здесь не место обсуждать пространные рассуждения Малиа о романтизме, социализме или советской внешней политике. Сосредоточимся на основной теме, а именно на том, как европейцы относились к России и как им следует к ней относиться.
В общем и целом я совершенно согласен с тем, что утверждает Мартин Малиа. Однако у меня есть известные сомнения, вызванные тем обстоятельством, что существуют факты, которыми Малиа решил пренебречь, и хотя факты эти не опровергают его концепцию, они побуждают кое в чем ее уточнить. Я полностью согласен с тем, что мысль об уникальной и непостижимой сущности России — чистой воды миф. Только расист или человек, верящий в особое предназначение определенных наций (впрочем, и та и другая теория не имеет недостатка в сторонниках), может отказываться исследовать русскую историю с помощью компаративистских методов. В этой связи уместно вспомнить европейское восприятие Китая, которое эволюционировало примерно так же, как восприятие России. Во времена Вольтера Европа имела дело с просвещенным Китаем, во времена опиумных войн — с Китаем чудовищным, а великие синологи конца XІX века превратили Китай в «страну, каких много». В это время Китай, точно так же, как и Россия, стал источником вдохновения для художников и писателей: Клоделя, Сегалена и проч. Затем Китай сделался источником надежд и страхов ХХ века. Параллельность этих перемен в восприятии Китая и России тем более замечательна, что Китай на протяжении XVІІІ и XІX веков не претерпел таких разительных изменений, как Россия. Отсюда можно сделать вывод, что европейские оценки зависят более от эволюции самой Европы, нежели от состояния тех стран, которые этой оценке подвергаются.

Заслуживает внимания и другое обстоятельство: существуют такие оценки России, которые оставались неизменными в течение многих лет и даже веков. Малиа сбрасывает со счетов то, что можно назвать «польской оценкой» России. Между тем поляки, венгры, прибалты — народы, принадлежность которых к Европе отрицать невозможно и которые знают на собственном опыте, что такое жить под властью России, — имеют на этот счет свое мнение, и мы не вправе этим мнением пренебречь. Они объяснят вам, что «кожей чувствуют» нечто особенное, о чем им трудно говорить с вами именно потому, что вы — европеец и «вам не понять». Об этом можно прочесть у Густава Херлинга («Особый мир»), у Чеслава Милоша, у Адама Чапского. Конечно, большую роль тут играет идеология, но дело не только в ней; просто все эти люди знают, что такое Россия, изнутри. Они не питают к России ненависти, нередко они ее даже любят, но попробуйте сказать им, что Россия — часть Европы. Они будут сильно удивлены. Забавно, что Мартин Малиа назвал свой главный труд так же, как называется знаменитый роман Джозефа Конрада, — «Глазами Запада». Конрад желал ниспровергнуть моду на все русское, возникшую в Европе под влиянием русских романов. Споря с Достоевским, он стремился обнажить некие странные, пагубные свойства русских, — те самые свойства, из-за которых поляки считают русских «чужими».
Отставание
Впрочем, будем подходить к вопросу так, как подобает историкам. Мы уже сказали, что главный инструмент интерпретации для Малиа — отставание. Но если так, должен существовать и ряд критериев для определения меры этого отставания. Малиа слишком хорошо знает историю, чтобы не понимать, что таких критериев множество. Однако он отдает явное предпочтение тем, которые связаны с развитием институций и движением мысли. Будь он русским, его бы причислили к историкам «государственной школы»; будь он немцем, его сочли бы наследником традиции Geistesgeschichte («истории духа»). Уделяя преимущественное внимание государству (устройству государственного аппарата, персональному составу чиновничества, государственным установлениям и проч.) и литературе, он тем самым усиливает ощущение исконной принадлежности России к Европе, пусть даже и с полувековым отставанием в развитии. Но нет ли здесь натяжки? Цари XVІІІ и XІX веков (даже Николай І, даже Александр ІІІ) были монархами-модернизаторами. Относительно несложно преобразовать на рациональной основе государственный аппарат, усовершенствовать среднее и высшее образование так, чтобы в стране ежегодно появлялись тысячи новых просвещенных чиновников, дать европейское воспитание тонкому слою элиты — все это довольно быстро приводит к появлению если не научной мысли, то, по крайней мере, литературы и искусства (ибо поэтам и музыкантам, в отличие от ученых, историков и философов, вообще не нужно ничего, кроме таланта). Однако и наука, и искусство не требуют больших затрат и касаются далеко не всех. И то и другое — лишь внешние формы, наброшенные на прежнюю «первичную материю», которая, увы, остается вполне «бесформенной»… История идей, если рассматривать ее на фоне общей истории человечества, всегда кажется чем-то непрочным и неопределенным, поскольку даже если мы точно знаем, что идеи великих людей оказывают воздействие, мы не можем объяснить, как именно это происходит. Что же касается России, то люди, олицетворявшие ее судьбу, всегда ясно сознавали, какая пропасть открывается у них под ногами и как непрочен плот, на котором они плывут. Пушкин с печальным смирением признавал, что в России единственный европеец — это правительство; он знал, что говорит.
Вернемся к списку критериев принадлежности к Европе — таких критериев, с какими согласились бы Гизо или Ранке. Если верить Малиа, получается, что Россия отставала от Германии всего на полвека. Однако никто не может отрицать, что Германия уже в XVІ веке могла похвастать множеством великолепных городов, что ее университеты, монастыри и княжеские дворы давали приют ученым, богословам и бесчисленным поэтам, что к их услугам были превосходные ремесленники, ювелиры, ткачи, земледельцы (свободные люди, а не рабы), в России же ничего подобного не было не только в XVІ, но даже и в XІX веке. Чи тая книгу Малиа, можно вообразить, будто в этом самом XІX веке Россия действительно «опережала» Испанию. Между тем в 1913 году доля грамотных людей в Мадриде была наверняка никак не меньше, чем в Петербурге, да и интеллектуальная жизнь едва ли была менее насыщенной. Зато испанская литература ведет свое начало от Сенеки, причем Андалусия была «развитой» уже в его времена. Можно ли отыскать в России XІX века города, способные сравняться с Севильей, Толедо, Валенсией и Саламанкой? Можно ли отыскать в ней те свободы, какие существовали в Испании — стране свободных людей, fueros [дарованные вольности (исп.). — Примеч. перев.] и регулярного судопроизводства (даже церковный суд — инквизиция — действовал в соответствии с законами)?
Говоря о допетровской России, Малиа опирается на рассказы европейских путешественников: Олеария, Герберштейна, Флетчера. Он отмечает, что все они описывали Россию как страну абсолютно варварскую. Между тем у путешественников, побывавших в то же самое время в Индии, в Персии, в Османской империи, не создалось впечатления, что они посетили варварские края. Россия выпадает из ряда «цивилизованных» или хотя бы «приобщаемых к цивилизации» стран. Русские в этом не виноваты: слишком сильно их страна была удалена от центров цивилизации. Однако следствием этой удаленности стало возникновение огромного пространства без городов, без ремесленников (русскому крестьянину все орудия труда заменял, как правило, топор), огромной страны, сельское хозяйство которой, по отзывам специалистов, достигло к 1913 году того уровня, на котором английское сельское хозяйство находилось во времена войны Алой и Белой розы.
Все эти факты, хорошо известные Малиа, вовсе не означают, что Россия имеет принципиально иную сущность, нежели Европа; они означают другое: во многих отношениях Россия отставала от Европы не на пятьдесят, а на целую тысячу лет, если не больше. Здесь, по всей вероятности, следовало бы выслушать мнение специалистов по древней истории. Вспомним великолепную книгу Пьера Паскаля о старообрядце протопопе Аввакуме, который жил в XVІІ веке и написал поразительную автобиографию. Она читается как хроника времен Меровингов. Паскаль, однако, уподобляет русский раскол движению янсенистов, а могучего варвара Аввакума — матери Анжелике Арно. Между тем подобное сопоставление «не работает», и Малиа понимает это не хуже других. Но порой желание обосновать свою концепцию заводит его так далеко, что он действует примерно теми же методами, что и Паскаль.
Малиа предвидел подобные упреки и заранее парировал многие из них. Однако он не убедил меня в том, что все странные и своеобразные свойства России можно объяснить с помощью одного-единственного понятия: «отставание». Более того, я позволю себе высказать предположение прямо противоположное: Россия была в определенной степени чужда Европе не потому, что «отставала» от нее, но потому, что ее «догоняла», и это оказывало на нее «развращающее» действие.
Здесь я вынужден обратиться к «общему месту» русской историографии — оценке фигуры Петра Великого. Я готов согласиться с Малиа в том, что русский царь во всем следовал примеру бранденбургского курфюрста или королей Швеции. Это правда — но далеко не вся правда. Названным монархам никогда бы не пришло в голову собственноручно исполнять обязанности палача или превращать дворцовые палаты в камеру пыток. Не говоря уже о том, что одно дело — создавать современный (т. е. «кольберовский») государственный аппарат из людей полностью или в основном свободных, и совсем другое — создавать тот же аппарат из рабов. Нельзя не вспомнить знаменитые слова Ключевского: Петр хотел, чтобы рабы оставались рабами, но притом действовали сознательно и свободно. Когда «отстающая» страна принимается догонять те, от которых она отстала, это нередко заставляет ее отклониться от верного пути и не позволяет достичь искомого результата. Руссо имел основания сказать, что Россия «сгнила, не успев созреть». Екатерина взялась за дело более умело; она сумела «залечить» многие раны, нанесенные петровским переворотом. Императрица методично строила в России настоящий Старый порядок. Однако она успела сделать лишь первые шаги в этом направлении: в противоположность тому, что утверждает Малиа, монархия старинного образца в России была далеко не достроена в ту пору, когда Французская революция и нарождающееся либеральное движение нанесли ей серьезный удар[3]. Условия, в каких пришлось действовать Николаю І, реформировать Россию не позволяли. Что же оставалось делать?
Религия как форма компенсации неполноценности
Оставалось лишь одно: искать иные способы преодолеть отставание. Если невозможно догнать Запад на деле — догоним его на словах, в воображении.
Первой формой такой компенсации неполноценности стала религия. Примечательно, что Малиа оставляет в стороне религиозный аспект русской истории. Между тем религия дважды сыграла в этой истории решающую роль. Впервые это случилось до Петра, в пору становления московского царства. Как это ни удивительно, в начале XVІ века монах Филофей обращает к Василию ІІІ такие слова: «Пресветлейший и высокопрестольнейший государь великий князь, православный христианский царь и владыка всех, браздодержатель святых божьих престолов, святой вселенской апостольской церкви пречистой Богородицы, честного и славного ее Успения, который вместо римского и константинопольского владык воссиял. <...> Так пусть знает твоя державность, благочестивый царь, что все православные царства христианской веры сошлись в едином твоем царстве: один ты во всей поднебесной христианам царь». Между тем царь этот стоит во главе страны, которая сплошь покрыта лесами и в которой общеупотребительна примитивная подсечно-огневая система земледелия. Русская мания величия поистине поразительна, и коренится она исключительно в особенностях религиозного духа. Все путешественники отмечают панический страх, внушаемый русским людям латинским миром, католической культурой. Православная Россия отгораживается от мира так же надежно, как мусульманская «умма». Петр разрушил эту ограду и, следуя германскому образцу, насильственно «протестантизировал» и «секуляризовал» православную церковь. Численность монахов, а равно их богатство и престиж резко пошли на убыль.
Однако русское православие окрепло вновь; в XІX веке оно вторично помогло русским компенсировать в воображении собственную неполноценность. Именно оно внушило славянофилам их версию объяснения принципиального различия между Россией и Европой: мы не ниже европейцев, мы просто другие. А поскольку европейская жизнь дурна, в чем европейцы сами признаются в своих статьях и книгах, значит, мы лучше их. Лучше же мы потому, что у нас есть вера, единственная истинная вера. Все наши мерзости, утверждают Гоголь и Достоевский, хороши хотя бы потому, что носят национальный характер, а коль скоро они носят национальный характер, значит, они проникнуты религией и, следова тельно, хороши вдвойне. На Руси полно грешников, но сама она свята и безгрешна, как свята и безгрешна Церковь. Это странное переплетение религиозного и национального начал (свойственное — хотя, надо признаться, в формах более утонченных и менее фанатических — и англичанам) сделало русский национализм единственным национализмом, которым легко «заражаются» иностранцы. Большая часть исследователей, изучающих Россию, проникаются русским духом. В XVІІ веке хорватский священник Крижанич вознамерился обратить Россию в католичество. Его очень скоро арестовали и сослали в Сибирь, где он провел пятнадцать лет; вернулся он оттуда влюбленным в Россию гораздо сильнее, чем прежде. Привязанность к России отличается поразительной прочностью: во Франции она сохранилась даже в третьем поколении эмиграции; в 1991 году потомки тех, кто покинул Россию после революции, были готовы сеять в посткоммунистической России идеи своих дедов. Не тут-то было: в 1998 году екатеринбургский епископ публично сжег книги, сочиненные не католиками и не протестантами, но самыми правоверными представителями православной церкви; все дело в том, что книги эти были написаны и напечатаны вне святой Руси, в эмиграции, а значит, нечисты.
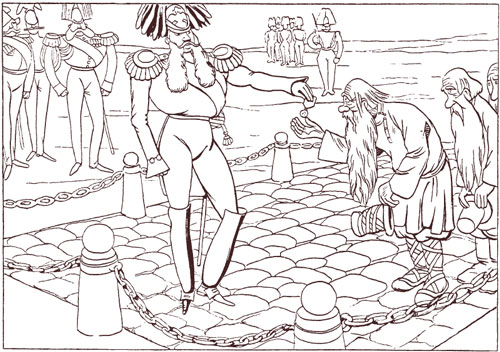
Даже сегодня переход русского в протестантизм или католичество кажется чем-то совершенно невозможным — не просто вероотступничеством, но самой настоящей изменой. Солженицын написал, что Польша представляла для России опасность куда бoльшую, чем татаро-монголы: ведь поляки могли заставить русских переменить веру. В XVІІІ веке церковь в России на время утратила свое могущество, но вновь обрела его в XІX веке; сегодня повторяется примерно та же ситуация: после своего почти полного уничтожения при большевиках церковь снова возрождается ради того, чтобы помочь России компенсировать ощущение неполноценности, вызванное ее непоправимым отставанием от Европы. Снова, как в XІX веке, религиозное здесь отождествляется с национальным, а национальное — с религиозным.
Имперское чувство
Вторым способом компенсировать собственную неполноценность становится имперское чувство. Оно проявляется в самых разных формах.
В XVІ и XVІІ веках территория России чрезвычайно увеличилась, распространившись до побережья Тихого океана; уже Вольтер заметил, что эта территория в несколько раз превышает территорию Римской империи. Русские так и не сумели ни полностью заселить эти пустынные пространства, ни научиться использовать их с выгодой для себя; роль огромной территории России сводится исключительно к тому, чтобы питать гордыню ее жителей. Просторы эти существенно повышают их самоуважение. «Мы» занимаем шестую часть суши. Возникает впечатление, что это географическое превосходство оказывает влияние на историю русских, придает ее большее величие и большую героичность. Так возникает питательная среда для фантазмов евразийства. По сей день люди, живущие в России, очень тяжело переживают «утрату» нескольких миллионов квадратных километров. Они наотрез отказываются расстаться с двумя японскими островками, которые Сталин в 1945 году незаконно объявил частью России. Для многих русских потеря территории равнозначна потере лица.
Второе, гораздо более распространенное проявление имперского чувства связано с завоеванием Россией Кавказа и Средней Азии. Русские покорили эти регионы в XІX веке, примерно тогда же, когда аналогичные колониальные войны вела Франция, причем и русские, и французы были убеждены, что исполняют благородную миссию — несут варварам более совершенную цивилизацию, защищают христиан, противостоят мусульманству. С этой частью империи жители «метрополии» расстаются сегодня с меньшей болью; тем хуже, думают они, для «неблагодарных» дикарей, не оценивших «принесенные ради них жертвы».
Третье проявление имперского чувства носит более оригинальный характер. В XVІІІ веке Россия покорила Украину, Польшу и Прибалтику — регионы, вне всякого сомнения, более развитые и более европеизированные, чем она сама. Русские действовали средствами, обычными для XVІІІ века, — договаривались с местными аристократами и брали их на государственную службу империи, а при необходимости применяли военную силу. Следует подчеркнуть, что русскому общественному мнению это расширение территории преподносилось как «воссоединение» с исконно русскими землями, которым Россия открывает свои объятия «с любовью», словно отец — блудному сыну. Именно к таким выражениям прибегает Солженицын, когда заклинает Украину и Белоруссию вернуться в отчий дом. Малиа напрасно полагает, будто в этом отношении нет разницы между Россией и Австрией или Пруссией. Прусское и австрийское правительства сознавали, согласно знаменитому высказыванию австрийского министра, что они «защищают Европу от диких орд». В случае с Россией в роли защитника выступает сама орда. Поляки и прибалты ощущали это очень остро. Русские со своей стороны также это понимали, но сила была на их стороне и они этим пользовались. Фраза Кюстина о «рабе, который стоит на коленях и мечтает о власти над целым миром», описывает эту ситуацию весьма точно.
Малиа, на мой взгляд, слишком мало пишет о том, насколько это господство над более западными областями препятствовало превращению Российской империи в европейскую державу — именно потому, что «европейскими» были как раз эти области. Дело в том, что «градиент» существовал и в пределах империи, и в течение XІX века перепад между разными ступенями лишь увеличивался, ибо в Польше и Прибалтике индустриализация началась раньше, чем в других регио нах России. Однако пример более развитых областей не вдохновлял области отсталые. Для того чтобы провести политическую реформу, необходимость которой стала совершенно ясной начиная с 1860-х годов, нужно было согласиться отпустить эти покоренные области на свободу, нужно было отказаться от имперского способа компенсировать собственную неполноценность. Согласиться на это Россия не могла, а между тем господство над Польшей и Прибалтикой оказывалось преградой на пути реформ, ведь потерю имперского чувства следовало чемто компенсировать, а такой компенсацией могла стать только либеральная или даже демократическая революция, которая привела бы страну к процветанию, — но этот путь был слишком трудным и слишком долгим. Куда проще было оставить империю в неприкосновенности. Когда в 1945 году коммунистическая Россия вернула себе господство над теми же областями и даже расширила зону своего влияния, она немедленно оказалась перед той же дилеммой, обрекшей русско-советское государство на стагнацию.
Ощущение удаленности от Европы нашло отражение в русской литературе. Литература эта родилась в начале XІX века, поэтому ее классиками стали романтики. Тема «особого пути» завораживает русских писателей. Основной вопрос, который они пытаются разрешить: не «что значит быть человеком?», а «что значит быть русским?». «Я человек по природе и француз по прихоти обстоятельств», — говорил Монтескье. Гоголь, Достоевский и, главное, писатели начала ХХ века, кажется, куда охотнее назвали бы себя «русскими по природе и людьми по прихоти обстоятельств». Большая часть писателей — за исключением (впрочем, весьма заметным) анархиста Толстого и аполитичного Чехова — и почти все историки одобряли господство России над Украиной и Польшей. Пушкин написал оду в честь подавления польского восстания в 1831 году. Все это не мешало русским писателям постоянно рассуждать о том, выше Россия Запада или ниже, грешен русский человек или свят.
Ложь
Третьим способом компенсации неполноценности, самым простым и самым обыденным, была ложь, иначе говоря, отрицание — против всякой очевидности — какого бы то ни было отставания России от Запада. Это не значит, что русские от природы более склонны ко лжи, чем другие люди, но слишком велик был контраст между их чаяниями, идеалами, проектами — и реальностью, поэтому им приходилось врачевать раны, наносимые их самолюбию, с помощью лжи. Эта традиция родилась так же давно, как и стремление «догнать» Запад, т. е. еще в XVІІІ веке. Кюстин, Маркс, Мишле разоблачают ее убийственно меткими фразами[4]. Объективные и сведущие французские и английские специалисты конца XІX века вынуждены признать, что писаные законы и правила остаются действующими только на бумаге и не находят применения, что Россия идет вперед больше на словах, чем на деле, а реальное движение если и происходит, то очень медленно; вязкая трясина засасывает реформаторов. Малиа разделил восприятие России европейцами на несколько четко разграниченных периодов. Для этого, безусловно, есть основания, однако это не должно скрывать от нас того факта, что восхищение Россией постоянно соседствует с сомнением в ее совершенстве; так обстоит дело начиная с XVІІІ века, с Вольтера и Руссо, вплоть до нынешнего времени. Славянофилы, выдумавшие теорию о единственной и неповторимой священной сущности России, не любили Петра Великого, потому что он силой повернул свою страну к Европе и тем оборвал ее плавную, «органическую» эволюцию, благодаря которой Россия шла бы к величию своим собственным путем. В дальнейшем цари, пусть и выступая за европеизацию России, относились к славянофильской исторической утопии все более снисходительно, ибо она придавала лжи концептуальный облик и преобразовывала печальную реальность в нечто величавое и триумфальное.
Малиа совершенно прав, когда — в отличие, например, от генерала де Голля и многих его единомышленников — отказывается считать коммунистический период истории России вытекающим из ее национальной природы. Я сам неоднократно возражал против этой концепции, ибо она не принимает в расчет автономию коммунистической идеологии, ее общеевропейские корни, ее специфическую извращенность и универсальную метафизическую природу. Однако верно и другое: одной из особенностей коммунистических режимов является их способность обострять в национальном характере и, прежде всего, в национальных формах государственного управления самые худшие черты. Коммунизм не только затормозил развитие России, он с фантастической быстротой и силой усугубил все то скверное, что замечали в русском государственном устройстве и в русском образе жизни европейцы. На смену нескольким сотням сотрудников тайной полиции пришли двести тысяч гэбистов. На смену сотне тысяч заключенных — несколько миллионов. На смену обычной лжи — ложь всемирная и универсальная, метафизическая, шизофреническая, создающая своего рода вторую реальность, империю обмана; не случайно Чилига называл Россию страной «обескураживающей лжи». Малиа говорит, что Россия никогда не стояла так близко к Европе, как в 1913 году. Прошло пять лет, и оказалось, что никогда она не стояла так далеко от Европы, причем произошло это, увы, оттого, что большевизм довел до предела — чудовищного предела — все черты русского характера. Точно так же, как в Китае при Мао были доведены до ужасного предела черты китайского характера. Все семьдесят лет коммунистического правления советская Россия была помешана на желании «догнать и перегнать» Запад; кончилось это тем, что она построила «некапиталистическое» государство, что означало, среди прочего, — государство «неевропейское» и «ультрарусское».
Судить по делам, а не по словам
Здесь я, пожалуй, прекращу свою полемику с книгой Малиа — книгой, повторю еще раз, очень богатой мыслями. Малиа, возможно, возразит мне на мои возражения, и я не сомневаюсь, что он сделает это со свойственным ему талантом, проницательностью и ученостью. В сущности, мы с ним продолжаем спор, который тянется в русской историографии уже три столетия. В нескольких словах его суть можно сформулировать так: ответ на вопрос, принадлежит ли Россия к Европе, зависит от того, считаем ли мы, что она просто «отстала» от Европы, или же признаем, что в данном случае мы имеем дело с «искажением» Европы, — искажением, причинами которого стали и вышеупомянутое отставание, и средства, с помощью которых русские пытаются «догнать» Европу, и пагубные следствия этих попыток. Если верно первое предположение, то мы имеем право утверждать, что Россия — часть Европы; если же верно второе, следует не торопиться с выводами и посмот реть, как будут развиваться события. Выбор какой-либо из этих двух точек зрения определяет и самые непосредственные практические выводы; от него зависит выбор политики, которую европейский Запад будет проводить в отношении России.

Малиа безусловно прав, когда указывает на западные корни социализма и на «филологическую» правомерность ленинской интерпретации учения Маркса. Но все это не отменяет того факта, что ленинская версия марксизма восторжествовала не где-нибудь, а именно в России, и торжество ее длилось здесь ненормально, сверхъестественно долго. Яд ее отравил души. Россия отвергла коммунизм (больше она к нему не вернется, в этом я согласен с Малиа), но она не очистилась от него полностью. Она его не забыла и не прокляла. Памятники Ленину попрежнему стоят на площадях. Коммунизм воспринимается в России не как патологическое, преступное заблуждение, но как один из периодов русской истории, в котором были и дурные, и хорошие стороны. Коммунизм амнистирован, и те, кто насаждал его в России, не понесли никакого наказания. Они участвуют в управлении государством и в политической игре, и Запад, который ратифицировал эту амнистию и разделил с Россией ее беспамятство, также несет ответственность за происходящее. В России нынче все чаще слышатся разговоры о том, что коммунизм, в конечном счете, был чужд России, что его туда ввезли из-за границы, что Россия в очередной раз оказалась бедной жертвой Европы. Люди, отстаивающие эту точку зрения, найдут аргументы в ее пользу в книге Малиа, хотя он, бесспорно, с этими людьми не согласен.
Коммунистический эпизод не может занимать в национальной памяти русских такое же место, какое занимает в национальной памяти французов революция 1789 года. Ибо эта революция, хотя и запятнала себя преступлениями, создала по воле «народа» такое новое общество, которое было связано многими узами с обществом старым. Русская же революция создала некое отрицание общества — общество разрушенное, раздробленное, деморализованное и, постольку поскольку оно живо до сих пор, закостеневшее в своем архаическом мышлении. Сегодня опять, как в 1815 году, перед русскими встает их великий национальный вопрос: что делать?
Есть всего один разумный путь, по которому русским следует идти, — путь, который указывает Малиа и о котором говорят многие влиятельные люди в России, — европеизироваться, реформироваться на западный лад. Однако цель эта кажется почти недостижимой. Если всего богатства ФРГ не хватило на то, чтобы за десять лет поднять до нормального уровня жизнь в Восточной Германии, территория которой не так уж велика, всего богатства мира не хватит на то, чтобы преобразовать Россию. Коммунизм в России торжествовал так долго потому, что ставил себе на службу некоммунистические интеллектуальные силы, самый ограниченный национализм и самую фанатическую религию. Этот сплав существует до сих пор, и то, что сегодня именуется коммунистической партией, есть не что иное, как беспорядочное смешение этих трех элементов. Слишком долго нужно ждать того времени, когда Россия сделается страной по-настоящему европейской, а пока суд да дело, ей может вновь захотеться прибегнуть к классическим способам компенсации «отставания» и связанного с ним ощущения неполноценности. Некоторые легковерные люди всерьез надеялись, что в России вот-вот наступит «христианское возрождение». Вместо этого в России на наших глазах выстроилась церковная иерархия гораздо более продажная, нетерпимая и сектантская, чем русская церковь до 1917 года. Империя распалась, это очень хорошо для России и может принести ей очень большую пользу. Однако люди, живущие в России, по-прежнему мечтают о воскрешении империи, и самые ловкие дипломаты, равно как и самые опытные сотрудники «органов», тайно готовят ее восстановление. Существование независимой Украины кажется большинству русских противоестественным кошмаром, от которого они вот-вот очнутся. Наконец, готова вновь вступить в свои права и ложь. Превращение аппаратчиков в демократчиков, практиков административной экономики в безоговорочных сторонников экономики рыночной, ловкость, с которой они выдают собственное воровство за приватизацию, присваивают деньги МВФ и немецких банков, — все это доказывает, что они по-прежнему неплохо владеют старинным ремеслом и лгут иностранцам так же умело.
Пока еще рано судить о том, к каким последствием приведет злосчастная Косовская операция. Однако уже сейчас можно сказать, что она оживила в России мечты о распространении православной империи на Балканы и что русским доставляет огромное удовольствие водить за нос западную дипломатию. Уже сейчас видно, как дорого обойдутся Европе ошибки наших дипломатов, важнейшей из которых было само приглашение России к участию в обсуждении этого вопроса, как будто от нее можно было ожидать искренней и бескорыстной помощи, как будто она уже в самом деле стала европейской страной. Еще дороже эти ошибки обойдутся России, если она воспримет свои успехи как «компенсацию», если это в очередной раз уведет ее далеко от Европы и заведет в тупик.
Я согласен с замечательной книгой Малиа в том, что следует принимать всерьез давнее, глубокое, упорное стремление России сблизиться с Европой, соединиться с ней. Форма и роль Российского государства, форма и суть русского религиозного чувства мешали России достичь этой цели. Стремление России навстречу Европе чрезвычайно трогательно и не может не пробуждать в нас симпатии и желания помочь, однако мы не должны терять рассудка, мы должны стараться отличать слова от вещей, декларации от поступков. Не историкам решать, принадлежит Россия к Европе или нет (они спорят об этом уже три столетия); это должна решить сама Россия. Ее история учит нас, что ей нельзя верить на слово: в данном случае необходимо судить только по делам.
[*] Commentaire. 1999. № 87. Редакция «ОЗ» посвящает настоящую публикацию памяти замечательного американского историка Мартина Малиа, скончавшегося в ноябре 2004 года. Перевод с французского Веры Мильчиной.
[1] Malia M. Russia under Western Eyes. From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1999.
[2] Подразумевается название классического труда английского историка Э. Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи». — Примеч. перев.
[3] См. об этом подробнее в моей статье «Россия и Французская революция» (Commentaire. 1989. № 46).
[4] Маркс говорит, что, несмотря на завоевания всемирного масштаба, существование этой империи остается не столько объективным фактом, сколько предметом веры; Кюстин утверждает, что ремесло, которым русские владеют лучше всего, — лгать иностранцам. Мишле пишет о «крещендо обманов, притворства, иллюзий»: «Вчера русские говорили нам: Россия — это христианство. Завтра они скажут нам: Россия — это социализм», и проч.
