Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Нормальное и нормативное
Нормальное и нормативное
Беседуют философы Анна Ямпольская и Михаил Ямпольский
Михаил Ямпольский: Начнем, может быть, с актуальной политической ситуации в России? Потому что там проблема нормы стоит довольно остро.
После недавнего заседания Совета Безопасности ООН стало очевидно, что Россия нарушает все нормы, принятые в международном праве, но считает свое поведение нормальным и сама ссылается на какие-то малоубедительные нормы. Она вообще выступает как яростный защитник нормативности, консервативной морали, часто твердит об оскорблении чувств верующих или патриотов, представляя их олицетворением определенной нормы. Особенно интересны в этом смысле гонения на гомосексуалистов, которые объясняют тем, что гомосексуализм — это аномалия, и что гонения эти суть утверждение нормы. При том что на Западе сегодня аномалией считаются как раз гонения на гомосексуалистов: там произошло признание гомосексуализма в качестве одной из допустимых сексуальных практик, варианта нормы.
Я думаю, многое из того, что происходит в России сегодня, позволяет проблематизировать понятие нормы и понять вообще, что такое норма, существует ли она реально или является просто способом оправдания каких-то сиюминутных политических действий. И в самом ли деле сейчас существуют «сообщества, основанные на норме»? Раньше было понятно, что есть большие сообщества, которые основаны на общности норм. Когда говорили, например, о христианском мире, предполагалось, что этот мир разделяет определенные идеи христианской этики или христианской догматики и т. д. Сегодня, как мы знаем, эти большие сообщества, которые более или менее вписывались в такую картину мира, основанную на нормативности, исчезают, нормы утрачивают неоспоримость, начинают подвергаться коррозии. Свидетельство тому — identity politics, когда каждое меньшинство утверждает, что имеет право на свою норму. Люди сталкиваются с необходимостью признавать полинормативность общества, невозможную без повышенной терпимости. Все меньше сообществ организуется вокруг нормативности. Может быть, нормативность просто меняет характер, не знаю. Конечно, эта коррозия пока не коснулась таких областей, как юридическая нормативность. Закон все еще обязаны признавать представители любых меньшинств.
Но и тут очевидны изменения, как мы видим, например, из истории борьбы за признание гомосексуальных браков, когда такие основы юридического общества, как понятие о семье, подвергаются коррозии. Даже эти, казалось бы, фундаментальные представления о нормативности, включая нормативность юридическую, начинают трещать по швам. В этом смысле интересно посмотреть, что происходит в России, которая так нервно, истерически реагирует на распад нормативности и пытается эту нормативность восстановить — иногда довольно дикарскими способами.
Вызывает ли то, о чем я сказал, у тебя какой-то отклик? Что ты об этом думаешь?
Анна Ямпольская: То, что ты говоришь, конечно, вызывает у меня ответную реакцию. Но прежде чем мы будем говорить о том, что именно происходит в России — восстановление нормативности или, наоборот, разрушение нормативности, — хорошо бы, мне кажется, оглянуться назад и задать себе вопрос: а что мы вообще называем нормой и откуда эти самые нормы пошли? Я хочу сказать примерно следующее. Мы употребляем слово «норма» в разных смыслах. Часто «норма» употребляется в значении «среднее»: нормальная погода для февраля — очень холодно, а нормальная погода для июля — очень тепло. То есть у слов «норма», «нормальное» есть значение «среднее». Есть и другое значение: «стандарт». Нормы, устроенные по принципу стандарта, являются конвенциональными нормами. Например, правила этикета — это, бесспорно, нормы. Или какие-то другие варианты конвенций. Скажем, есть метрическая система мер и имперская система мер, но нельзя сказать, что литр более нормален, чем пинта.
М. Я.: Для меня — безусловно более нормален.
А. Я.: Ну а для обитателей Великобритании, конечно, нет. Насильственное введение метрической системы в Англии шло болезненно, и в розничной торговле по-прежнему измеряют жидкости пинтами, а не литрами.
М. Я.: Значит, для англичан более нормальны пинты, такова иерархия норм.
А. Я.: Да, совершенно верно. Здесь норма выступает как некоторая конвенция. Мы условились, скажем, что в нормальной бутылке молока будет не литр, а две пинты (две пинты — это как раз примерно литр). В Англии и меряют пинтами, а в России — литрами. И когда в России вдруг появились пакеты молока по 900 миллилитров, это все равно — хотя на пакете честно написано: 900 миллилитров — воспринимается как какой-то обман. Мы же неявно договорились, что в пакете литр, почему же они продают меньше?
Это другое значение нормы. Есть и третье значение: мы называем вещь нормальной тогда, когда она соответствует некоей сути вещи, ее идее, ее сущности, скажем так. Нормальный человек — не гомосексуалист, он обязательно гетеросексуален. Нормальный человек — европеец, мужчина, имеет гетеросексуальную семью и так далее, и так далее. А все прочие варианты — ненормальны. В общем, та самая безногая чернокожая лесбиянка...
М. Я.: Какой страшный образ ты рисуешь!
А. Я.: Это из анекдота. Не знаешь этот анекдот? Ты оторвался от реальности. Так вот, «ненормальность» зачастую воспринимается как искажение самой сути вещи. Противопоставление нормы и аномалии исходит из того, что у вещей есть некоторая суть, что им правильно быть какими-то, что существует некое добро, некое благо. В общем и целом такое представление о норме возводит норму к платоновским идеям, в первую очередь к идее блага, — и оно принципиально важно, потому что именно с этим представлением традиционно ассоциируется незыблемость нормы. Можно выделить несколько видов норм. Скажем, конвенциональные нормы — это нормы подвижные. Пинты, литры — все это преходяще. А есть нормы незыблемые: нельзя врать, нельзя красть. Если подписал договор, надо его соблюдать. Если дал слово, должен ему следовать. Нельзя убивать. Эти нормы исторически связаны, перво-наперво, с десятью заповедями, а также, во многих отношениях, с функционированием общества и семьи; традиционно сюда же относятся и нормы, описывающие психическое здоровье.
М. Я.: Ну, что касается «врать» и «нарушать договор», то сегодняшняя Россия эту нормативность не очень подтверждает.
А. Я.: Я не хочу классифицировать конкретные образцы норм, утверждать, что те или иные из них незыблемы и связаны с самой сутью вещей, с понятием блага, а другие только кажутся незыблемыми и сущностными. Важно, что некоторые нормы в общественном сознании относятся к таковым.
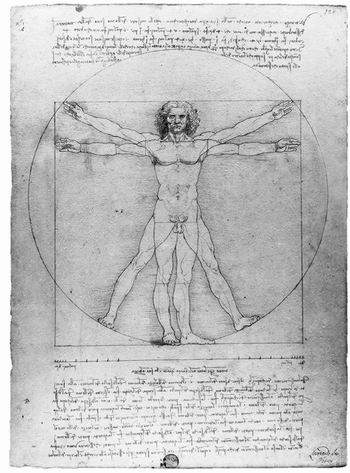
Кроме того, мы можем выделить еще один, очень важный смысл слова «норма»: норма — это то, что используется для определения вещи. В некоторых случаях норма — это то, с помощью чего мы вещь определяем. Вот вещь на четырех ногах — это стул или стол? На самом деле — как уговоримся. Может быть, даже престол — смотря как использовать. То есть «нормальная» вещь означает — соответствующая своей роли, успешно ее исполняющая. В этой ситуации под словом «норма» подразумевается нечто, связанное со смыслом вещи и с отделением этого смысла от других: мы используем стул не так, как стол, а малой государственной печатью не стоит колоть орехи. Значит, можно утверждать, что в семантическом аспекте норма связана с отграничением одной вещи от другой.
Мой тезис заключается в том, что в общественном сознании эти разные виды норм зачастую оказываются перепутаны. Когда ты говоришь, что Россия нарушает те нормы, которые тебе, как представителю западной цивилизации, кажутся незыблемыми, — нормы международного права, запрет на публичное вранье, особенно на вранье неприкрытое, — для тебя или, во всяком случае, для международного сообщества это объясняется только одним: люди, которые так себя ведут, потеряли контакт с реальностью. Потому что по твоим представлениям покушаться на то, что абсолютно незыблемо, на то, что связано с самой природой вещей, совершенно невозможно.
И наоборот: нормы сексуального поведения рассматриваются на Западе как конвенциональные, подлежащие изменению и корректировке. Сегодня мы говорим, что семья — это не только мужчина и женщина и их потомство, семью могут образовать и мужчина с мужчиной, и женщина с женщиной; возможны и какие-то другие варианты, хотя не совсем очевидно, какие именно. В то время как для среднего россиянина, сколько я понимаю, дело обстоит не так. Нормы, связанные, скажем, с семейной жизнью, с браком, воспринимаются как природные, естественные — или богоданные. Они возводятся к идее человека как ens creatum — тварного сущего, определяемого естественным законом. У этого сущего есть целевая причина, оно призвано соответствовать какому-то предназначению, и отход от этого предназначения равносилен падению или болезни. В этом смысле довольно существенно, что по отношению к некоторым нормам противоположностью является аномалия, а к некоторым — патология. И это мне представляется очень важным различием.
М. Я.: Ну, я думаю, что любая норма кажется нам естественной и в каком-то смысле спущенной откуда-то сверху.
А. Я.: Вовсе не обязательно. Мы воспринимаем многие нормы как привычные, но, тем не менее, договорные. Таковы, например, нормы этикета. Почему мы держим нож в правой руке, а вилку в левой? Разве так удобнее? Нет, просто так принято.
М. Я.: Нормы этикета, конечно, тоже условны, как и остальные, и все же на них лежит печать почти природной данности. Если человек входит в дом и не здоровается... Мы понимаем, что здороваться — это социальная конвенция. Но отступление от нее воспринимается как нарушение чего-то абсолютно естественного, данного от природы. Все нормы, конечно, условны, они результат исторического развития. Но я не совсем с тобой согласен, что нужно все эти нормы отделять друг от друга, потому что я думаю, что за ними стоит общий генезис. Они по своей сути гораздо ближе друг другу, чем ты представляешь. За нормами стоит общий семантический механизм, который характерен для культуры. Когда мы говорим, например, о чем-то среднем — погоде, характерной для лета и для зимы, или о том, что характерно для птицы (крылья, клюв) и для рыбы (хвост, плавники), — мы сводим их к некой идеализированной абстракции, платоновской идее. При этом существуют какие-то промежуточные феномены, которые трудно приписать к определенным видам: пингвин, конечно, птица, но не летает, и т. п. То есть в нашей картине мира есть нормативные и ненормативные образцы. Так организован наш мир. В современной семантике есть целая область, которая это изучает. Сошлюсь на шведского ученого Питера Герденфорса, который говорит о концептуальном пространстве. Всегда существуют явления, которые трудно определить. Взять хотя бы цветовой спектр — есть оттенки цвета, которые находятся между желтым и зеленым или желтым и красным, и их очень трудно однозначно назвать. Но всегда в спектре цветов, и это характерно для нашей концептуализации мира, мы выделяем абсолютно безусловные зоны красного или безусловные зоны зеленого, которые определяем как нормативный красный и нормативный зеленый. А остальное попадает в зоны большей или меньшей неопределенности. Герденфорс говорит, что семантическое пространство организовано вокруг таких пятачков абсолютной определенности. И существование этих зон семантической нормативности необходимо, иначе мы просто не могли бы говорить, не могли бы употреблять слова. Понятие не определяется с абсолютной точностью, но соотнесено с неким пространством наделения смыслом, некой зоной нормы.
А. Я.: Я только что ходила на выставку Клее, и у него — ты, наверное, знаешь, — есть такой этюд, где цвет переходит от красного к зеленому непрерывно. Он так иллюстрировал технику живописи для студентов...
М. Я.: В Баухаусе?
А. Я.: Да. У него были специальные приемы — как построить эту непрерывную палитру от красного к зеленому. Просто ровно тот же пример.
М. Я.: Это занимало многих в Германии задолго до Клее. Взять хотя бы Рунге, который писал в трактате Farbenkugel, что цвет нельзя представить на плоскости — это можно сделать лишь в трехмерном пространстве, в сфере, где учитываются не только оттенки, но и насыщенность цвета, интенсивность, степень освещенности и т. д. Об этом говорил и Гельмгольц: он тоже считал, что необходимо строить трехмерное пространство цвета. Это любопытная сама по себе проблема — как организуются эти зоны усредненности, которые оказываются зонами нормативности. Герденфорс же интересен тем, что он пытается вот эту модель цвета, которая еще в XIX веке использовалась как семантическая модель, распространить на весь мир и с ее помощью понять ту роль, которую играет норма.
Ты говоришь о морали или каких-то вещах, которые можно назвать необходимыми, безусловными. Я думаю, все это относится к тому же пониманию нормы как чего-то концептуального, выделяемого и определяемого, прямо связанному с платонической идеей нормы, с представлением о сущности вещей. В книжке, которую ты прислала мне несколько дней назад, антологии постфеноменологических текстов[1], есть статья Жослена Бенуа: он разбирает нормативность у Гуссерля и, в частности, гуссерлевский платонизм, разговор о котором, как мы знаем, не прерывается. И совершенно справедливо, с моей точки зрения, говорит, что норма эта платонична в той мере, в какой, не будучи данной нам феноменально, она позволяет феноменам состояться. Идея треугольника позволяет конституироваться феноменальным манифестациям треугольника. Иными словами, норма сама участвует в феноменализации и является ее частью, а не просто чем-то изолированно-трансцендентальным. Он, например, одобрительно суммирует точку зрения Деррида: «Само представление о феномене может быть понято только исходя из определенной нормативной структуры, потому что сказать, что нечто является, — значит в некотором смысле уже рассматривать его как то, что должно явиться, а значит, рассматривать его согласно определенной структуре наполнения [интенции]». Это платонизм, участвующий в мире согласно определенным «структурам наполнения», а не повисающий в небесах.
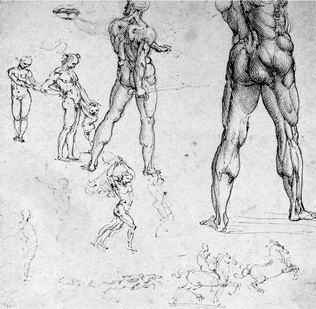
Есть книга, которая мне кажется очень интересной. Она написана малоизвестным философом, чьи работы сейчас привлекают все большее внимание. Я имею в виду Реймона Рюйера и его книгу «Мир ценностей» (Le Monde des Valeurs). Я, собственно, стал ее читать, потому что меня поразила первая ее глава, где речь идет о семантической сфере цвета. Рюйер пытается показать, что нравственные нормы вписываются в семантическое пространство точно так же, как цвет. По существу, то, о чем пишет Герденфорс — один из живущих сейчас создателей модели концептуального пространства, — Рюйер писал еще в 1948 году. С его точки зрения, мы можем располагать моральные ценности в точно таких же семантических зонах, как цвет. Здесь тоже есть зоны нормативности и зоны отклонения, здесь действуют те же семантические механизмы. Как только мы вступаем в сообщество, мы начинаем объективировать какие-то представления, сводить воедино трансцендентальные горизонты, конституировать нормы. Иначе мы не могли бы коммуницировать, общество не имело бы возможности существовать, ведь его члены должны разделять какие-то представления о зонах нормативности и стабильности просто на языковом уровне и на уровне поведения. Общество целиком организовано вокруг этих нормативных вещей.
Вот почему я не считаю, что пакет молока, в котором 900 граммов, — пример, резко отличный от представлений о том, что хорошо и что плохо. Общество признает нормой определенную меру, которая абсолютно условна — точно так же, как условна, конечно, идеальная форма птицы или идеальная зона цвета. И считает, что 900 граммов вместо литра — это недолив или обман. Прецедент такой же: нам подсовывают что-то ненормативное. Поэтому мне не кажется, что разделение семантического пространства на условные, платонические или иные формы нормативности так уж нужно. Возможно, это относится и к юридическим законам. Не случайно законы эти все время пытаются объяснить естественным правом, о котором вспоминают с тех самых пор, как общество перестало быть ориентированным на господа бога. И эта «естественность», этот loi naturelle — как угодно назови, — может располагаться на сфере социальных норм так же, как цвет на цветовой сфере или даже пинты и литры на «сфере мер». Мы имеем дело с необходимыми конвенциями, которые создают единство сообщества, то есть социальный мир, отраженный в нашем языке. Язык обеспечивает единые платформы для существования сообществ, для общения и обмена информацией, и для этого он обязан конституировать нормы в том, что считается птицей, или красным цветом, или правильной мерой, или приемлемым поведением — и так далее. Конечно, я не хочу сказать, что между формой птицы и нравственным поведением нет никакой разницы. Это было бы глупо, потому что они входят в совершенно разные области нашего социального бытия.
Другой вопрос, как эти нормы конституируются. С моей точки зрения, норма не может конституироваться без ее нарушения, без трансгрессии границ, без наличия пограничных явлений, без аномалий, патологий и пр., потому что без этого никакая норма вообще не имеет смысла. Она формируется только благодаря аномалиям и одновременно с ними. И как только возникает аномалия, нечто противоположное норме, запускаются чрезвычайно интересные социальные, семантические механизмы и резко актуализируются процессы, протекающие на границах. Об этом когда-то говорил Лотман. Границы генерируют нормы и одновременно запускают динамику социокультурных изменений, без которых невозможно функционирование общества. Если бы не было границ и нарушения этих границ, общество превратилось бы в полное ничто, это была бы абсолютно стабильная, мертвая, самоклонирующаяся тавтологическая система, лишенная всякого смысла. Потому что норма, не сформулированная через оппозицию к аномалиям, бессмысленна.
А. Я.: Я думаю, что семантическое определение нормы, о котором ты говоришь, есть определение нормы как нормального. Если же мы говорим про определение нормы как нормативного, то предполагаем, что эти нормы не просто существуют, но что они нас определенным образом обязывают, к чему-то призывают, чего-то от нас требуют и в конечном итоге нас связывают. То есть эти нормы относятся к области социальных связей. И очень важно: общество не может существовать, если социальные связи будут считаться одной лишь условностью. Потому что иначе возникает ситуация, которую мы видели в Совете безопасности: я хозяин своего слова, захотел — дал, захотел — обратно взял. Поэтому общество обязательно должно предполагать, что некоторые социальные нормы являются сакральными. Такое допущение даже сильнее, чем отсылка к трансцендентальным формам существования норм, отсылка к платоновским идеям. Сакральность нормы проявляется еще и в том, что норма связана с представлением о здоровье. Это такая дерридеанская идея... Скажем, по-английски мы говорим о человеке, что даже по-французски так нельзя сказать, что он выздоровел, что он теперь whole, то есть исцелился, стал цельным, целым. И норма — это как раз здоровое, не порочное, целомудренное, ничем не запятнанное. Мне кажется, требование незыблемости нормативного поведения, соблюдения договоров и обещаний — того требования, с которым сейчас, в частности, Запад обращается к Путину, — связано именно с представлением о том, что социальные связи носят сакральный характер. Мы можем этот сакральный характер каким-то образом дезавуировать, мы можем сказать, что вот эти конкретные нормы — не сакральные. Но можем ли мы дезавуировать сакральный характер норм вообще — для меня это большой вопрос. Деррида, как известно, отвечал на него отрицательно.
Еще раз: в данном случае я не хочу ставить вопрос о сути конкретных норм, я хочу поставить вопрос о том, как мы воспринимаем, как общество воспринимает нормы вообще. И очень важно, что покушение на нормы — на те нормы, которые воспринимаются как сакральные, — считается святотатством. При этом следует заметить, что такое определение в принципе ставит вне закона все, что находится вне этой области сакрального. А вне области сакрального оказываются всякие, как ты справедливо говоришь, интересные вещи — в частности, все, что связано с неуниверсализуемым, с единичным, с инаковостью другого человека и так далее. Но для нашей беседы важно то, что норма как таковая может расширяться, может смещаться, но само представление о норме как о нормативном, о том, что предписывает и обязывает, отсылая к сакральным основам общества, к авторитету и традиции, которые, как показала Арендт в знаменитой статье What is authority?, неразрывно связаны с религией. По-моему, это чрезвычайно важно и достойно всякого изучения. Потому что, действительно, то, что находится за границей нормы, то, что находится у границ нормы, то, куда норма может смещаться и расширяться, — все это непременно бывает если не профанным, то профанирующим.
М. Я.: Я думаю, норма и трансгрессия находятся в «диалектической», не люблю это слово, связи, потому что нарушение прочерчивает границу и таким образом определяет нормативность. Как профанное, нарушающее границы сакрального, определяет, что такое сакральное.
А. Я.: Согласна.
М. Я.: Но в области политики, мне кажется, это проблема довольно сложная, потому что политика вписывает в себя нарушения нормативности, принимающие те или иные формы суверенности. Суверенность — это важный термин политического. Суверенность означает, что существует какая-то инстанция, которая находится над нормативностью. Суверен — это тот, кто стоит над законом и его порождает. Это зона вненормативного волюнтаризма. Шмитт, Агамбен об этом много говорили. Суверен — это тот, кто связан с чрезвычайной ситуацией, исключающей законы. Об этом много размышлял Батай, в частности и применительно к художественному творчеству. Путин, кстати, обожает ссылаться на суверенность, все время настаивает на том, что любая критика России — это нарушение суверенности.
А. Я.: Да, у нас же не просто демократия, а суверенная демократия.
М. Я.: Суверенная демократия, конечно. Даже и на Западе есть — немногочисленные, правда, — люди, испытывающие какое-то амбивалентное чувство к Путину, который, нарушая все международные нормы, тем самым испытывает границы усталой и вялой западной либеральной демократии. Всякая трансгрессия, даже серийные убийства, вызывают у кого-то если не восхищение, то интерес, который, впрочем, умеряется ужасом перед лицом открытого бандитизма.
Ну и, конечно, мы хорошо знаем от Бахтина, что карнавал, нарушая в какой-то момент все общепринятые социальные иерархии и нормы, является совершенно необходимым элементом нормативизации, потому что без карнавала нормы не были бы внятно очерчены, он как бы очерчивает нормы и постоянно их разрушает. Восхищение карнавальными формами поведения, которое характерно для Бахтина, находится в очень близкой связи с идеей суверенности как чего-то выведенного за рамки нормативности.
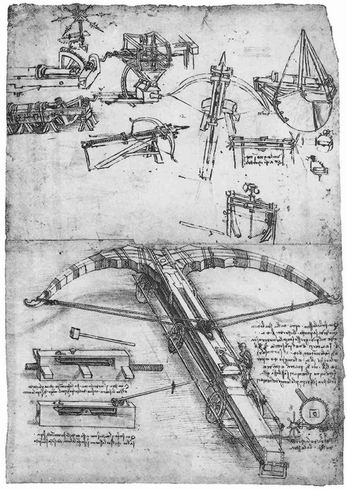
Для меня интересно то, что политика никак не может избавиться от самого термина «суверенность». Эта суверенность постоянно бродит призраком по политической теории — правда, сейчас все пытаются ее критиковать. И тем не менее она все еще существенна для нашего нестабильного мира.
А. Я.: Более того, суверенность является некоторой нормой. Теория суверенитета была построена в предположении, что суверен один. Сейчас, когда у нас есть Организация Объединенных Наций, этот принцип означает суверенность каждого отдельного государства: как Россия суверенна, так и Украина в свою очередь является носителем суверенитета. И оказывается, что суверенность является тоже своего рода нормой. Что суверенное, изначально будучи вненорма-тивным, теперь определяется тем, что в мире есть не одно государство, а много, не один суверен, а много; оно является разновидностью нормы. И вот эта идея столкновения нескольких суверенитетов делает политический дискурс столь противоречивым.
Но я хотела сказать другое. Ты совершенно прав, обратившись к идее Бахтина о том, что карнавал формирует нормативность будней. Когда мы говорим о патологии или аномалии как изнанке нормы, мы обязательно предполагаем, что самим актом ограничения, который связан с понятием нормы, мы либо определяем патологию через норму, либо норму через патологию. Если взять такой важный случай противопоставления нормы и аномалии, как психопатологию, то после Фрейда психическое здоровье определяется как отсутствие болезни, как, скажем так, недодиагностированность. Но всегда ли мы можем определить норму из ненормы? Можем ли мы определить будни из карнавала? Красное через некрасное? С логической точки зрения, как показал Рассел, это невозможно, потому что некрасное — это не класс, а красное — это класс. И есть ощущение, что в мире социальных связей как раз происходит наоборот: мы определяем норму отрицательно: как не-ложь, не-кражу, не-убийство, не-безумие. Это для меня большая проблема. Мы всегда говорим о норме применительно к определенному типу ситуаций. Есть ситуации, к которым данная норма не применяется: на то она и норма, что всякий раз применима только в определенном пространстве, только на определенном поле. Не происходит ли здесь как раз то, что само определение нормы через патологические варианты содержит в себе некоторое предопределение того, что мы под ней понимаем? Нет ли здесь порочного логического круга, смешения нормального и нормативного?
М. Я.: Верно, норма всегда situation bound, ситуационна, всегда должна соотноситься с конкретной ситуацией. Я согласен и с тем, что оппозиция аномального, патологического и нормативного очень зыбкая. Ее трудно ухватить, хотя она является, с моей точки зрения, одним из центральных механизмов определения нормы. Мне кажется, что проблематизировать эту область можно благодаря наработкам Мишеля Фуко. Фуко был прав, поместив в центр размышлений о норме оппозицию безумия и рациональности, разума. Он был прав, потому что норма для нас рациональна (и тут хорошо прослеживается ее связь с платонизмом). Она для нас связана с категориями разума, а патология в пределе — с безумием. Фуко хорошо описал, каким образом разум начинает зачищать для себя пространство, вытесняя все сопротивляющееся в зону аномалий и невменяемости. Вопрос в конечном счете — как провести границы между безумием и разумом. Уже Кант писал об антиномии разума, который неизменно выходит в сферу иллюзий, парадоксов, в каком-то смысле за пределы разумного.
А. Я.: Да, поэтому у Канта есть трансцендентальный переход. И поэтому у Гуссерля точно так же нормы носят трансцендентальный характер.
М. Я.: Есть что-то интересное в этом переходе. Например, пресловутая суверенность Путина сегодня многими с легкой руки Меркель относится к области безумия. То суверенное поведение, поведение, которое у Батая вызвало бы восторг, начинает восприниматься как иррациональное, выходящее за пределы разума. Для меня пример описания здесь дают Адорно и Хоркхаймер, говорящие о парадоксальных метаморфозах рациональности: когда идеи Просвещения приводят к холокосту и грамотно организованному Освенциму. Такова инструментальная рациональность Вебера, которая тотально выводит за рамки разума и за рамки норм. Инструментальная разумность того, что Вебер описывал как бюрократическую организацию (это Шмитт хорошо показал), вся основана на правилах и нормах, но не знает финального смысла своей деятельности. Не может ответить на вопрос, зачем она действует. И как раз в силу жесткой опоры на правила она очень легко выводит в сферу абсолютной бессмысленности. Шмитт прав: соответствие определенным нормативным процедурам в такой ситуации ведет к бессмыслице многих законов. Это то, что нам показывает Дума, которая чисто механически все проводит через бессмысленные нормативные процедуры рассмотрения в комитетах, первые-вторые-третьи чтения, и производит абсурдную пародию на законодательство.
А. Я.: Я и хотела сказать: правила прекрасным образом производят абсурд.
М. Я.: Да, но мы часто считаем правила высокой формой рациональности и при этом видим, как происходит постоянное соскальзывание «разумного» в область полнейшего безумия. Это соскальзывание проблематизирует саму идею разумного. Рациональное вообще очень трудно ухватить, трудно сказать: «вот рациональное, вот нерациональное». Все время происходит бесконечное соскальзывание из зоны нормы в зону патологии, так что мы никогда не можем до конца быть ни в чем уверенны.
Фуко написал статью об известной книжке Кангийема «Норма и патология»; он ведь был его учеником и многие вещи, связанные с эпистемологией, у него взял. И в этой статье он радикализирует идею Кангийема и говорит, что жизнь — это ошибка. Все, что связано с жизнью, основано на ошибке, вообще главный механизм жизни — это ошибаться, выходить за рамки предсказуемой рациональности; это и есть жизнь. И когда Ницше говорил о том, что всякие формы морали, всякие формы нормативизации, формы рационализации — это нигилизм по отношению к жизни, отрицание жизни как таковой, которая, собственно, не может быть сведена к этим формам и которая просто выхолащивается в формах рациональности, — я думаю, в этом что-то есть. Осуществляется постоянная попытка вместить жизнь в узкие рамки нормативности, которая никогда до конца не удается. Нормативность всегда существует в кризисе, в режиме кризиса, она никогда не может реализоваться непротиворечивым образом.
А. Я.: Да, но тут мы уже забрели в философские дебри — заговорили о пределах разума и т. п. Я, как феноменолог, считаю, что все-таки разум обречен на антиномии, на блуждания в потемках, если не будет трансцендентального перехода или какого-то его аналога. Если мы не будем думать, что, конституируя мир, конституируя смысл мира, мы получаем доступ к истине как таковой и к благу как таковому, как считал Гуссерль, если мы решим, что полностью непричастны к трансцендентальной жизни или что ее не существует вовсе, то мы будем обречены всего лишь на производство правил и в конечном счете на безумие. И поэтому феноменология говорит, что должна быть надежда на трансцендентализм. Конечно, трансцендентальный идеал полностью недостижим — тем не менее надежда на трансцендентализм должна быть обязательно. Потому что если мы достигаем истины, если соприкосновение с истиной и с реальностью дает возможность выйти за пределы того, что мы лишь предполагаем, что мы постулируем, о чем уговариваемся, то мы сможем сместить наше поле работы, то поле, на котором были определены предыдущие нормы, и таким образом выйти к новым формами рациональности. Мне кажется, это тот единственный прогресс, который вообще возможен в области норм, и поэтому тотальная вера в то, что норма является формой уговора, а не формой осмысленности мира, представляется мне достаточно опасной. В этом смысле на меня большое впечатление произвели рассуждения Эрвина Штрауса: он говорит, что Фрейд, пытаясь определить психическое здоровье как частный случай патологии, рассматривает человека только под одним углом. В то время как человека надо рассматривать во всем многообразии его проявлений в мире, то есть не только как больного, но и как гражданина и так далее. Мы не должны забывать, что любая конкретная норма относится лишь к ограниченной области, что мы не можем расширять поле ее применимости, что есть измерения жизни, измерения смысла, которые в нашу норму не укладываются, которые нашей нормой не описываются. Мне кажется, это очень важно.

М. Я.: Я согласен, но есть большая разница между феноменологическим постулированием нормативности и пониманием нормативности как некоего абсолюта. Конечно, когда мы понимаем, что конституируем мир в горизонтах какой-то трансцендентальности, — это понимание, видимо, действительно отражает какие-то фундаментальные свойства человеческого мира. И, слава богу, такая возможность для нас не закрыта и намечена Гуссерлем. Но думать, что истина, норма существуют как платонические идеи — это принципиально иная вещь. Одно дело считать, как Деррида, что мы движемся к какой-то недосягаемой демократии, а другое дело — считать, что эта демократия где-то есть, в каком-то мире.
А. Я.: Разумеется, мы не должны предполагать существование какого-то topos hyperuranios, на котором находится идея демократии или идея чего бы то ни было.
М. Я.: Я понимаю, что мы не можем существовать вне какого-то трансцендентального горизонта...
А. Я.: Да, и этот трансцендентальный горизонт обязательно задает некую иерархию, в которой благое лучше, чем неблагое. В этом горизонте благое не просто является полезным, пригодным, как говорил Хайдеггер, — в нем только и можно представить благое, истинное, единое как таковые. Мы можем все время корректировать наши представления, можем сознавать: то, что мы считали благом — на самом деле не благо, то, что мы считали истиной — на самом деле не истина. Однако предположить, что истины и блага как бы вовсе нет, это, мне кажется, достаточно опасный шаг, который, в общем-то, ведет к распаду современного мира.
М. Я.: Да, нашему сознанию и нашей культуре свойственно существовать в горизонте трансцендентального. Но я хочу немного сдвинуть разговор в другую сторону: взглянуть на то, как отношения с нормой оказываются способом самореализации человека, того, что Симондон называл индивидуацией. Через отношения с нормой мы как бы превращаемся в то, что мы есть, приобретаем идентичность. И я думаю об этом в связи со знаменитым разделением разных стадий человеческого сознания, которое описал Кьеркегор, когда противопоставлял эстетическую и этическую стадии. Я не буду говорить о третьей стадии, религиозной, это далеко бы нас увело.
А. Я.: Хотя в принципе как раз религиозная стадия — самая интересная, потому что она связана с выходом за границы этики.
М. Я.: Верно, но я хочу обратить внимание на другое. Эстетическая стадия предполагает такое взаимодействие с миром, данным нам в чувственных формах, при котором мы наслаждаемся тем, что нам предложено. И эта эстетическая позиция не заставляет нас осуществлять какой бы то ни было выбор. В этом смысле эстетическое действительно, с моей точки зрения, не обладает внятной нормативностью. Мы можем читать все что угодно, смотреть фильмы, где показывают насилие, убийства. Мы можем читать маркиза де Сада с его каталогом (вполне, кстати, рациональным) самых чудовищных садистских форм поведения. И для нас это, в принципе, приемлемо, потому что не предполагает никакого экзистенциального выбора. На уровне эстетической стадии бессмысленны претензии к Pussy Riot, потому что эстетика — это форма свободы, которая в значительной степени лежит вне нормативности. Как эстетический субъект я могу выбирать все что угодно. Для меня тут нет никаких ограничений. Но такой эстетический субъект, пишет Кьеркегор, не обладает субстанциальностью. Потому что он может соотнести себя с чем угодно. Примером является дон Жуан — даже не дон Жуан, а дон Джованни, потому что Кьеркегора интересует не сам дон Жуан, а персонаж оперы Моцарта. Дон Жуан переходит от одной женщины к другой, ни с кем себя не связывая. Этическая стадия у Кьеркегора связана с тем, что потом Сартр назовет engagement, ангажированностью, то есть с принятием решения, осуществлением выбора. Датский философ пишет важную для меня вещь. Этический выбор, по его мнению, страшен, мучителен, потому что он урезает поле возможностей, резко сужает диапазон возможного. Эстетическая позиция соотнесена с бесконечным пространством потенциального. Ты можешь и это, и это, и это. Дон Жуан может овладеть всеми существующими женщинами. Когда в рамках этического выбора человек женится (брак для Кьеркегора — модель этики), происходит сужение поля возможного.
А. Я.: Совершенно верно: когда человек женится, он осуществляет символическую кастрацию. Однако, как учил Лакан, только принятие собственной символической кастрации может избавить нас от неврозов.
М. Я.: Да, это так!
А. Я.: В некотором смысле главная проблема современного человека, мне кажется, заключается в том, что он совершенно не в состоянии sengager. Кризис брака, как ты справедливо говоришь, недаром совпадает во времени с кризисом вообще политической ангажированности, политической вовлеченности. Ты перестаешь себя отождествлять с чем бы то ни было. Ты всегда хочешь оставить себе другие возможности. Воображаешь себя вот этим самым сувереном, которому все подвластно. Но тем самым мы переходим из сферы символического в сферу воображаемого и обрекаем себя на психоз. Таким образом, отказываясь от ограничения собственных возможностей, мы никогда не можем иметь доступ к другому в его инаковости, а можем иметь доступ только к другому как зеркальному образу собственного «я».
М. Я.: Согласен. Но хочу обратить внимание на важный момент в рассуждениях Кьеркегора. С его точки зрения, через этот знаменитый экзистенциальный выбор субъективность обретает субстанциальность, потому что человек связывается с другим по-настоящему. И эта связь определяет человека.
А. Я.: И Лакан в известном смысле говорил о том же — но у него связь с Другим невозможна помимо символического регистра, помимо Закона.
М. Я.: Это обретение идентичности прямо связано у Кьеркегора с тем, что выбор вводит человека в зону закона, то есть нормативности, о которой у нас речь. Закон, то есть ограничение возможного, он считает необходимым условием ин-дивидуации. Я не могу индивидуироваться, я остаюсь несубстанциальным субъектом до тех пор, пока я не ограничил себя законом.
А. Я.: Здесь еще можно вспомнить мою самую любимую цитату из Лакана — о том, как неправ был Достоевский с его формулой «если Бога нет, то все позволено», потому что психоаналитики знают, что если Бога (то есть инстанции Закона) нет, то не позволено вообще ничего.
М. Я.: Я думаю, то, о чем мы сейчас говорим, прямо соотносится с политической ситуацией в России, где нет реальной политической жизни, реальных политических партий, где практически нет возможностей для реального ангажирования. А есть, я бы сказал, эстетическая форма ангажирования, создаваемая медиа. Медиа безостановочно транслируют какие-то «нормы» в виде некоей «педагогики». Эти нормы не требуют от человека никакого engagement, можно быть на стороне «патриотов» или на стороне «непатриотов», скажем либералов. Но в принципе отсутствие возможностей для политического engagement создает именно несубстанциальную форму субъективности, отношения с нормой не реализуются в полной мере, мы находимся в какой-то такой политико-эстетической форме субъективации или индивидуации, которая до конца не позволяет реализоваться человеку в деятельности. И в этом смысле появление гражданского общества, протеста или ангажированности, вовлеченности в гражданскую деятельность очень важно.
А. Я.: На самом деле это очень большая проблема. Потому что когда люди выбирают, «быть за Путина» или «быть с либеральной тусовкой», они не выбирают идею what they stand for, как сказали бы англичане. Ведь Путин лавирует, да и представители либерального лагеря тоже зачастую лавируют. И когда люди на полном серьезе решают, голосовать ли им на выборах за Прохорова или за коммунистов, это показывает, что они не отождествляют себя ни с какой конкретной программой.
М. Я.: Ни с какой практикой. Когда люди с энтузиазмом поддерживают сейчас Путина, они совершенно не собираются отправляться на фронт и воевать на Украине. Это чисто эстетическая безответственность каких-то чисто внешних ангажирований, которую я и называю «эстетической политикой», в противоположность реальной практике.
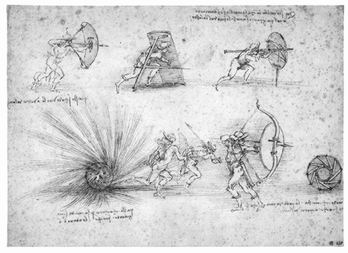
А. Я.: Да, причем весьма эротизированная безответственность, так скажем. Чтобы не сказать «гомоэротизированная».
М. Я.: Последнее, может быть, что я хотел бы с тобой обсудить, если не возражаешь, — это вопрос о размывании широких зон нормативности, на что кое-кто сетует, а кое-кто приветствует. В 1988 году появилась знаменитая книжка Маршалла Бермана, которая называлась All That Is Solid Melts into Air. Позже Зигмунд Бауман опубликовал свой социологический бестселлер Liquid modernity («Текучая современность»). С их точки зрения, реальность утрачивает зоны субстанциальной нормативности и все вокруг превращается в бесконечную динамическую форму саморазрушения норм. Там обсуждается судьба евгеники и социального дарвинизма как ambiguity, утверждения позитивных идеалов нормативного человеческого рода, удаления всякой патологии — все, что приводит к общеизвестному кошмару. Кстати, и Бауман, и Берман говорят о том, что разрушение нормативности связано с капитализмом. Есть известная книжка Хиршмана, которая показывает, что капитализм начинает развиваться тогда, когда, например, грех стяжательства перестает быть грехом. Капитализм как бы возникает из разрушения этической догматики. Мы знаем, конечно, что капитализм, разрушая сообщества, разрушая личные отношения, подменяет их денежными отношениями, оказывая тем самым сильное воздействие на зону нормативности. Нынешнее размывание норм — общее место социологии. А моделью этого, конечно, является сексуальность. Потому что сексуальность — это самая очевидная зона, в которой наблюдается разрушение социальной нормативности. Тут вообще сегодня непонятно, что есть норма. Происходит безусловное размывание понятия семьи.
Я недавно читал интересную книжку Лайзы Даймонд, изданную Harvard University Press, которая называется Sexual Fluidity, где она показывает, например, что существуют различия между соматической сексуальностью и субъективной сексуальностью, как она ее называет. Субъективно человек может испытывать гетеросексуальное влечение, а тело бессознательно манифестирует гомосексуальное желание. Вообще само понятие «желание», которое становится фундаментальным для культуры, все время разрушает границы и дестабилизирует нормы. Сексуальность так важна еще и потому, что desire, как мы знаем, является основой рынка.
Можно ли, с твоей точки зрения, говорить, что мы постепенно входим в мир, где нормы подвержены коррозии? И не является ли то, что происходит сегодня с Россией, истерической реакцией на утрату социальной нормативности, на утрату стабильности социальных групп — реакцией, выражающейся среди прочего в росте национальных или религиозных чувств? Вся истерия вокруг гомосексуалистов мне вообще представляется каким-то замещающим движением. На геев обрушивается гнев людей, чьи собственные идентичности дестабилизированы. Истерика вокруг православия, возникшая в связи с Pussy Riot, проявляет, мне кажется, вот это невротическое ощущение утраты нормативности, которую люди все время ищут, которую пытаются обрести через гомофобию или черносотенство.
Но распад нормативности одновременно ведет к росту толерантности в мире. Россия, на мой взгляд, как и многие другие культуры, ведет тут заранее проигранные арьергардные бои. Или тебе кажется, что нормативность все еще обладает статусом большой организующей силы, что она не находится под ударом или в режиме фрагментации? И что такое вообще фрагментированная нормативность? Когда нормативность релятивизируется и фрагментируется, она сама по себе становится проблематичной.
А. Я.: Мне кажется, что то, что ты говоришь про падение сексуальных норм на Западе, не означает падения всех норм. Возьмем простой пример: человек, который лжет. Западное общество, особенно англо-саксонское, очень болезненно относится к нормам, связанным с нарушением доверия. К примеру, в России человек, который списывает на экзамене, вообще обществом не порицается, это я могу сказать как преподаватель.
М. Я.: Мы все знаем это.
А. Я.: Да, в то время как в западном обществе ситуация выглядит совсем по-другому. Например, человек списал на экзамене. Его едва не выгоняют из университета, а потом ему нужно снять квартиру. И хозяин квартиры просит рекомендацию из университета, от его тьютора, а тьютор пишет: «Я знаю, что он списывал на экзамене, поэтому не знаю, будет ли он честен в финансовых делах». И все, жизнь выглядит после этого несколько более блеклой.
М. Я.: Но это связано с тем, что доверие — фундаментальная черта капитализма.
А. Я.: Можно сказать, что при капитализме сексуальные нормы ослабляются, нормы же, связанные с доверием, напротив, ужесточаются. Но такое ощущение, что в России никаких норм, связанных с доверием, вообще не осталось. Какие русские слова наиболее частотны? «Кинуть» и другие синонимы к «обмануть». И поэтому мне кажется, что сакральность нормы вытесняется в сферу сексуального поведения, которая остается единственной сферой непоколебимого, о котором я говорила, непорочного, целостного, абсолютно стабильного. О чем люди мечтают? О «стабильности». И эта стабильность должна иметь выражение хотя бы в чем-то.
М. Я.: Стабильность при полном подрывании всякой стабильности! Путин, который все время кричит о стабильности, целенаправленно дестабилизирует все вокруг себя.
А. Я.: Эта нестабильность связана с отсутствием доверия. Как говорил Локк, основатель идеи толерантности, мы можем терпеть до той или иной степени всех, кроме атеистов, потому что атеисты, которые не могут поклясться на Библии, не могут дать присягу, не могут свидетельствовать на суде, не могут вступать в экономические отношения, то есть они полностью находятся вне общества. Иначе говоря, Локк готов был терпеть всех, кроме тех, кто не держит свое слово, потому что не верит в его сакральность. Русское же общество, столь нетерпимое, в некотором смысле нетерпимо ко всем, кроме обманщиков. И мне кажется, требование стабильности и предсказуемости сексуального поведения является в каком-то смысле противовесом этой терпимости к обманщикам, которая столь распространена в нашем социуме. Потому что где-то должна быть область целостного, область нетронутого, область святого. Это очень глубокая человеческая потребность. Конечно, более разумно было бы эту потребность в святом перенести на человеческие отношения, а не на формы сексуального поведения. Ведь в России, что характерно, никто не требует той святости брака, которая, как ты говорил, образует экзистенциальный выбор. Никто не предполагает, что, вступая в брак, ты действительно даешь слово, которое тебя каким-то образом навеки связывает. Социальные связи в очень сильной степени нарушены, мало какой мужчина соглашается добровольно платить алименты собственному ребенку. Однако характеризация тех или иных форм поведения как сексуальной трансгрессии остается последней нормой, принимаемой обществом в качестве безусловной. Именно поэтому общество требует их сохранения, ведь это последнее, что осталось. На практике неприятие нетрадиционных форм организации сексуальной жизни встречается гораздо реже, чем хотела бы условная Мизулина. Но для общества важно, чтобы осталось само понятие трансгрессии, само понятие греха.

[1] (Пост)феноменология: новая феноменология во Франции и за ее пределами / сост. С. А. Шолохова, А. В. Ямпольская. М.: Академический проект, 2014. — Прим. ред.
