Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Встреча с Наполеоном как биографический конструкт в русской культуре
ВСТРЕЧА С НАПОЛЕОНОМ
КАК БИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТ
В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ[1]
Наполеон Бонапарт — многоликий образ мировой истории и культуры. «Судьба Наполеона Бонапарта, — писал Ю. М. Лотман, — сделалась как бы символом безграничной власти человека над своей судьбой. Выражение “Мы все глядим в Наполеоны” не было гиперболой: тысячи младших офицеров во всех европейских армиях спрашивали себя, не указует ли на них перст судьбы. Вера в собственное предназначение, представление о том, что мир полон великих людей, составляло черту массовой психологии для молодых дворян начала XIX в.»[2]. Однако не только подражание Наполеону владело умами людей той эпохи. Любая сопричастность фигуре Наполеона становилась значимой. Как бонапартизм, так и антибонапартизм являлись культурными кодами эпохи романтизма, о которых тот же Лотман писал, что именно сквозь них проходит «случайность реальных событий», чтобы эти события стали биографическими[3]. Иными словами, включение в собственное жизненное переживание (проживание) сюжетов, связанных с Наполеоном, давало право на биографию.
Наполеоновский мотив биографического нарратива наиболее ярко проступает в акте коммуникации, когда герой того или иного повествования встречается с Наполеоном. Часто изложение исторического переживания подобного рода разворачивается в рамках автобиографических текстов. Приведу еще одну цитату из Лотмана: «В системе романтизма все функции тяготеют к совмещению: тот, кто имеет биографию, сам себе дает на нее право (возможно и обратное утверждение: тот, кто присваивает себе право на биографию, имеет ее) и сам ее описывает»[4]. Отсюда желание соотнести так или иначе свое существование с личностью Наполеона, причем не в рамках общего опыта (участие в войне, взятие Парижа и т. д.), а через индивидуализацию личного наполеоновского опыта, с тем чтобы затем рассказать о нем.
***
Встречи с Наполеоном могли быть различными по своей типологии. Одни русские офицеры мечтали о том, чтобы просто увидеть и поподробнее рассмотреть «властителя дум». И уже это давало им богатый материал для автобиографического описания. Денис Давыдов, будучи в 1807 году адъютантом П. И. Багратиона, вспоминал о своем пребывании в Пруссии в период заключения Тильзитского мира: «Имея некоторое право посещать Тильзит, я просил князя Багратиона о дозволении мне ездить туда как можно чаще. Князь… согласился на мою просьбу без затруднения и почти ежедневно посылал меня с разными препоручениями к разным особам, проживавшим тогда в Тильзите. Это обстоятельство представило мне средство видеть почти ежедневно Наполеона, и часто на расстоянии одного или двух шагов от себя»[5]. Далее он описывает подробным образом свою первую встречу с французским императором.

Другие участники войн с Наполеоном имели случай не только наблюдать, но и общаться с покорителем Европы, как, например, князь Алексей Щербатов. Он попал в плен под Данцигом и был лично отпущен Наполеоном в Дрездене, причем последний заметил, что «никогда не почитал» его пленным. Сам Щербатов, имея время до аудиенции, внимательно наблюдал за всем, что его окружало: «Я не сожалел о том, что принужден был ждать, ибо имел чрез то случай видеть некоторые подробности двора Наполеонова или, лучше сказать, его главной квартиры — все, что касается до сего великого человека, было и будет всегда любопытным». Далее следовало описание краткого разговора с Наполеоном, который принял его «с веселым и ласковым лицом»[6]. Хотя для Щербатова-мемуариста встреча с Наполеоном оказалась лишь эпизодом его довольно объемных воспоминаний, заканчивающихся 1840-ми годами, его биографическая легенда была связана именно с наполеоновским временем. Помимо уже описанной встречи с Наполеоном к этой легенде можно отнести и «его личный Аркольский мост» — Голоминское сражение, в котором он, подхватив знамя своего отступающего полка, остановил таким образом бегство солдат. Оба этих эпизода были изложены А. И. Михайловским-Данилевским в его «Описании второй войны императора Александра с Наполеоном в 1806 и 1807 годах»[7] по выпискам из мемуаров Щербатова, специально сделанным для историка, о чем в тексте имеются сноски. Биографическое значение данных эпизодов, таким образом, неоспоримо. С. П. Шевырев, опубликовавший в 1849 году в «Москвитянине» некролог Щербатова, заметил: «Аудиенция Наполеона князю Щербатову в Дрездене принадлежит так же (как и описанный Шевыревым эпизод со знаменем при Голомине. — А. Г.) к числу достопамятных событий его жизни. Великий полководец отдал справедливость храброму русскому генералу и отпустил его с честию»[8]. Стоит отметить в скобках, что в архиве Михайловского-Данилевского сохранились выписки из мемуаров Щербатова, посвященные и другим эпизодам наполеоновских войн[9], однако сносок на щербатовские записки историк при их описании не дает, очевидно, беря за основу другие документы.
Описал по просьбе А. И. Михайловского-Данилевского свою встречу с Наполеоном в 1805 году на поле Аустерлица и князь Николай Репнин, командир эскадрона в Кавалергардском полку. Он по праву считал свой разговор с французским императором одним из важнейших эпизодов собственной жизни, «ибо оным приобрел… особенное благоволение покойного государя (Александра I. — А. Г.)»[10]. Эпизод этот, взятый из записки Репнина, был включен в «Описание первой войны императора Александра с Наполеоном»[11]. «Похвала великого полководца есть лучшая награда солдату», — говорит Репнин Наполеону в ответ на комплимент по поводу честности и храбрости кавалергардов. Интересно в контексте построения биографии, что участвовавший в беседе Репнина с Наполеоном корнет (в записке Репнина ошибочно назван поручиком. — А. Г.) Павел Сухтелен, по его собственному свидетельству, в ответ на реплику Наполеона о чрезвычайной его молодости для войны с таким серьезным соперником, как французская армия, произнес слова из трагедии П. Корнеля «Сид», в оригинале звучащие как «Je suis jeune, il est vrai; mais aux âmes bien nées. / La valeur n’attend point le nombre des années» [Я молод, это так; но если сердце смело, / Оно не станет ждать, чтоб время подоспело. — Пер. М.Лозинского]. Это особенно понравилось Наполеону[12]. Однако Репниным при передаче диалога Наполеона и Сухтелена, намеренно или нет, «сидовская» маркировка опущена. В любом случае, если бы Репнин передал ее, биографический конструкт, им созданный, получил бы некоторый крен в сторону Сухтелена.
Впоследствии, в 1810—1811 годах, Репнин прибыл ко двору Наполеона с дипломатическими поручениями российского императора, однако с точки зрения биографического построения случайная встреча на поле Аустерлица гораздо более концептуальна, нежели рядовая, в общем-то, дипломатическая миссия.

А вот дипломатическая миссия князя Петра Долгорукова, можно сказать, сделала ему биографию. Один из самых деятельных людей своей эпохи, он прожил короткую, но насыщенную событиями жизнь, заслужив одобрение двух императоров, Павла I и Александра I. Долгоруков весьма удачно действовал на административном и особенно дипломатическом поприщах, вел переговоры со Швецией и Пруссией. Однако самая известная в истории его дипломатическая миссия, ставшая самым ярким эпизодом его дипломатической карьеры, — это поездка к Наполеону в 1805 году, последствием которой, по мнению многих современников, стал разгром союзных войск при Аустерлице. Долгоруков держался с Наполеоном крайне высокомерно, а по возвращении в Главную квартиру представил все дело так, как будто Наполеон испугался силы русской армии (здесь надо отдать должное хитрости и актерским способностям самого Наполеона). За этим последовало решение атаковать войска Наполеона, что и закончилось катастрофой для союзной русско-австрийской армии. Подобные суждения можно найти в переписке той поры, об этом писали австрийские газеты, это отмечалось в мемуарах. Даже сам Наполеон обратил на князя высочайшее внимание только затем, чтобы назвать его дерзким ветрогоном и шалопаем, разговаривавшим с ним как с боярином, которого собираются сослать в Сибирь. Долгоруков был вынужден оправдываться перед общественным мнением, выпустив две специальные брошюры[13]. «Единогласно утверждают очевидцы, — резюмировал Михайловский-Данилевский в «Описании первой войны императора Александра с Наполеоном», — что привезенные князем Долгоруковым известия о французской армии, и даже, по уверению его, нетвердом духе самого Наполеона, были для союзников одною из причин, побудивших атаковать без отлагательства»[14].
Стоит отметить, что, приступая к своему первому труду о наполеоновских войнах, а именно к «Описанию Отечественной войны 1812 года», вышедшему в 1839 году, Михайловский-Данилевский, как он сам отмечал в предисловии, «входил в переписку с начальствами, от Архангельска до Крыма, от Гродно до Иркутска; спрашивал духовных лиц и мирян, тех, кто был прикосновенен к делам, близок к императору Александру или призван к Наполеону»[15]. Таким образом, сам историк придавал встрече с Наполеоном исключительное значение для своего повествования, биографические эпизоды в котором занимали одно из главных мест.
Обстоятельства своей встречи с Наполеоном в Вильне после перехода французскими войсками Немана генерал-адъютант Александр Балашев изложил в собственноручной записке. Этот текст — единственный из его «Записок касательно моей жизни», неоднократно публиковавшийся[16]. Остальные мемуары не опубликованы до сих пор, несмотря на то что они посвящены значительным эпизодам российской истории, среди которых, например, обстоятельства снятия с должности главнокомандующего М. Б. Барклая де Толли в 1812 году, а также подробности получения Балашевым поста генерал-губернатора пяти губерний Российской империи. Сам этот факт весьма показателен, а если учесть, что свою записку о встрече с Наполеоном Балашев составил по просьбе А. И. Михайловского-Данилевского[17], то можно осторожно предположить, что она и послужила толчком для составления всего остального мемуарного повествования.
Генерал-майора Павла Тучкова, командовавшего бригадой при обороне Смоленска и взятого в плен в сражении при Валутиной горе (бой у Лубина), Михайловский-Данилевский просил сообщить о том, как он попал в плен, видел ли Наполеона, а также «в чем состоял… разговор с ним»[18]. Тучков самым подробным образом описал обстоятельства своего пленения[19] и изложил разговор с Наполеоном, по некоторым суждениям схожий с тем, что передал в своей записке Балашев[20]. Встреча Наполеона и Тучкова вплелась в историю Отечественной войны: она стала первой попыткой Наполеона войти в контакт с русским императором после начала полномасштабных боевых действий. Эта же встреча стала важной биографической характеристикой самого Павла Тучкова в рамках семейного мемуарного предания о четырех братьях Тучковых: Николай и Александр героически погибли в Бородинской битве (последнего, естественно, характеризует и романтическая история его любви к Маргарите Нарышкиной), Сергей Тучков — поэт и масон, знакомец Пушкина, лично знавший Радищева, и Павел Тучков — человек, который встречался с Наполеоном. Это тем более верно, если учесть, что другие мемуарные записи Павла Тучкова о 1812—1814 годах, которые позволили бы судить о его собственных биографических построениях и предпочтениях, не сохранились[21].
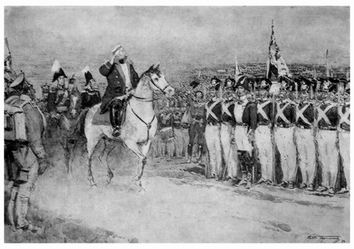
«Каким образом очутились вы в плену в Москве и в чем именно состоялся (так! — А. Г.) ваш разговор (с Наполеоном. — А. Г.), который по сих пор столь отлично изображают?»[22] — спросил Михайловский-Данилевский Льва Нарышкина, в кампанию 1812 года ротмистра Изюмского гусарского полка, отправившегося с Ф. Ф. Винценгероде для переговоров к французскому гарнизону, оставленному Наполеоном в Москве, попавшего вместе со своим патроном в плен и присутствовавшего затем при его беседе с Наполеоном на Верейской равнине. Подробности «нашего пленения», — сообщал Нарышкин, — «глубоко запечатлелись в моей памяти». Он изложил разговор Винценгероде с императором французов и рассказал про его «ужасную выходку». По его словам, выражения Наполеона в ходе этого разговора «рождались с бешенством и гневом»[23]. Михайловский-Данилевский, внимательно изучив присланные ему Тучковым и Нарышкиным мемуарные отрывки, включил их в свое повествование с соответствующими сносками на источник[24].
Фаддей Булгарин, тщательно строивший свой жизненный образ, литературную репутацию и литературную биографию, конечно, не мог не включить в свой биографический текст встречу с Наполеоном. Это событие он описывает в специальном очерке под названием «Знакомство с Наполеоном на аванпостах под Бауценом 21 Мая 1813 года»[25]. Здесь, конечно, вслед за Л. Н. Киселевой, специально разбиравшей прагматику булгаринских мемуарных текстов[26], следует оставить «в стороне вопрос о подлинности этих и других эпизодов» и обратить внимание не только на «эффективность литературного жеста», но и на сам факт наличия встречи с Наполеоном в мемуарах Булгарина как важного биографического конструкта для человека той эпохи и на приемы его описания. Талантливый творец собственной биографии, Булгарин не ограничивается передачей обычного разговора с французским императором. Он, очевидно пытаясь выделить свой собственный рассказ среди других подобных, описывает весьма нетривиальную ситуацию, когда Наполеон лично остается командовать постом, пока сам Булгарин успешно выполняет его поручение. Получение звания капитана французской службы из рук самого императора в следующем эпизоде не выглядит на этом фоне таким уж фантастическим. Конечно, этот случай не совсем «чистый» в свете темы статьи, ибо Булгарин тогда служил во французской армии, однако весьма показательный.
Александр Чернышев, во время своих встреч с Наполеоном штаб-ротмистр, а затем ротмистр Кавалергардского полка и флигель-адъютант Александра I, находился при особе французского императора в 1808—1810 годах продолжительное время. Пожалуй, из русских людей он общался с Наполеоном более всех. Сам он мемуаров об этом не оставил, возможно, из-за секретных поручений, которые ему были даны помимо официальных. Сохранились только его подробные донесения о пребывании при французском дворе и о беседах с Наполеоном, в ходе которых он, выполняя возложенные на него поручения, «старался удержать в памяти, с сохранением даже подлинных слов, насколько это возможно», «каждое выражение, в котором проглядывала какая-нибудь идея и пробивалась наружу какая-нибудь затаенная мысль»[27]. Однако несомненно, что это было первое из всех событий жизни Чернышева, которое давало ему право на биографию.
Встреча с Наполеоном как акт тираноборчества в случае его реализации также могла сделать его исполнителя фигурой исторической. В целом тираноборческий контекст, конечно, очень обширен, однако в рамках данной темы акт тираноборчества превращается в биографический конструкт. Николай Муравьев-Карский вспоминал, как Михаил Лунин, будущий декабрист, в 1812 году в бытность свою штаб-ротмистром гвардейского Кавалергардского полка мечтал, чтобы его «послали парламентером к Наполеону с тем, чтобы, подавая бумаги императору французов, всадить ему в бок кинжал. Он даже показал мне кривой кинжал, который у него на этот предмет хранился под изголовьем. Лунин точно бы сделал это, если б его послали»[28].

Биографический эпизод встречи с Наполеоном, переходя на страницы художественной литературы, становится эпизодом литературным. Генерал-адъютант Балашев, перемещаясь на страницы романа «Война и мир», становится литературным героем. Понятно при этом, что он совсем не таков, как в своем автобиографическом тексте или в текстах историков, где он одерживает над Наполеоном психологическую победу. У Л. Н. Толстого Балашев раздавлен, не может произнести практически ни слова. Встреча с Наполеоном в полном соответствии с дегероизирующей Наполеона идеологией Толстого не может «сделать» биографию тому, кто с ним встретился.
Другая «историческая» встреча с Наполеоном, перешедшая в толстовский роман, — это уже упоминавшийся эпизод Аустерлицкого сражения, когда с Наполеоном беседуют князь Репнин и корнет Сухтелен (у Толстого, как у Репнина и Михайловского-Данилевского, ошибочно поручик. — А. Г.). Здесь к историческому описанию механически прибавляется описание вымышленного персонажа — князя Андрея Болконского, размышляющего о ничтожности Наполеона, не желающего отвечать на его вопросы и тем самым нивелирующего биографическое значение не только своей собственной встречи с великим французом, но и «исторической» встречи с Наполеоном кавалергардов.
Ту же картину можно наблюдать и в описании Толстым Тильзита, которое дается через наблюдение за Наполеоном Николая Ростова, типологически (но не идеологически!) схожее с наблюдениями Дениса Давыдова. Николай Ростов не понимает, что и зачем делает этот странный человек с белыми руками, плохо, к тому же, держащийся в седле. Следуя философии Толстого, можно сделать вывод о том, что встреча с Наполеоном не должна давать права на биографию. Однако подобное опровержение лишь подтверждает существование предмета.
Совершенно другого плана — встреча с Наполеоном в произведениях Ф. М. Достоевского. Разница в изображении дала возможность некоторым исследователям не вполне обоснованно утверждать, что «Л. Толстой и Ф. Достоевский положили начало двум подходам к личности Наполеона — антибонапартистскому (“Война и мир”) и пробонапартистскому (“Идиот”)»[29]. «Униженные и оскорбленные» герои Достоевского как за спасительную соломинку, как за последний шанс остаться в памяти, хватаются за свои наполеоновские биографические сюжеты, практически всегда вымышленные. Как уже отмечалось в исследовательской литературе, «у Достоевского о Наполеоне рассуждают жалкие старики»[30], то есть люди, биография которых не удалась. Даже Ардалион Александрович Иволгин, несмотря на свои генеральские эполеты, — человек без биографии. И Иволгин, и слабоумный князь К. из «Дядюшкиного сна», увидевший Наполеона во сне, — оба потенциально выдающиеся личности своей эпохи. У одного хорошо идет служба, другой богат и знатен. Однако все в прошлом. Из-за жизненного перелома они не получили биографию. Фантазии Иволгина и слабоумие князя только увеличивают разрыв между реальным жизнеописанием и желаемой биографией, которой у них нет. В «Рассказах бывалого человека»[31] отставной военный (по-видимому, унтер-офицер[32]) Астафий Иванович повествует о том, как по вступлении его полка в Париж участвовал в праздничном шествии и видел Бонапарта позади шествия, кричавшего, как и все остальные: «Ура белому царю!» Эта фольклоризированная встреча с Наполеоном выдумана, и выдумана именно для конструирования биографии. В этом аспекте она вполне типологически соотносима с вымыслом в «Идиоте» и «Дядюшкином сне». Интересно, что во всех трех эпизодах, как всегда у Достоевского, значим элемент покаяния Наполеона[33], как бы примиряющий бонапартизм и антибонапартизм.
Нельзя здесь не упомянуть и еще о двух встречах с Наполеоном литературных героев: Леонида Волосова в романе Р. М. Зотова «Леонид, или Некоторые черты из жизни Наполеона» и Петра Выжигина из одноименного романа Ф. В. Булгарина. Первый из них в момент встречи с императором французов уже как бы начинает писать свою, в будущем, надо сказать, весьма фантастическую биографию: «Почитаю себя слишком счастливым, что видел так близко знаменитейшего человека нашего столетия». И далее, представляясь Наполеону, сообщает, что «русские офицеры Волосов и Силин удостоились видеть так близко Ваше величество и день этот запишут они для сохранения памяти потомства»[34]. Петр Выжигин рассказывает о своей встрече с Наполеоном на Бородинском поле после сражения доктору Лебеденко, начиная таким образом создание своей биографии.

Встреча с Наполеоном как акт тираноборчества в литературе также присутствует. Один из героев упомянутого романа Зотова, член германского тайного общества по имени Штабс, «добрый честный немец, йенский студент, горячая романтическая голова»[35], мечтает убить Наполеона. «Корсиканский тигр непременно падет под моим ударом… я возьму такие меры, что мне никто не помешает»[36], — говорит он после первого неудавшегося покушения. Его арестовывают с кинжалом в руке, уже готовым нанести удар французскому императору[37]. Идея покушения — визитная карточка образа Штабса в романе. Штабс — герой с биографией, «завязанной» на встречу с Наполеоном.
В отличие от него толстовский Пьер Безухов, также мечтающий сразить тирана, имеющий, как и Штабс, свои определенные идеологические основания и оставшийся для этого в занятой французами Москве, с Наполеоном так и не встретился, а попав в плен, вообще перестал интересоваться идеями, на которые раньше ориентировался: «В душе его как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой все держалось и представлялось живым, и все завалилось в кучу бессмысленного сора. В нем, хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожилась вера и в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в Бога». Он отказывается от биографии, смысл которой мог бы заключаться в убийстве Наполеона.
Интересна в данном контексте встреча с Наполеоном, где его визави его не узнает. Получается, что такому персонажу не нужна эта встреча, не нужна биография, то есть перед нами человек без биографии. Таков немецкий крестьянин в уже упоминавшемся очерке Булгарина, где сам факт неузнавания служит для Наполеона и его придворных поводом для подшучивания над ним. Таков денщик Николая Ростова Лаврушка из толстовской «Войны и мира». Узнав Наполеона, он делает вид, что не понимает, кто перед ним, отказываясь таким образом от биографии[38]. О Наполеоне Лаврушку Николай Ростов и Ильин именно «расспрашивают», а не сам он им рассказывает. Лаврушка — вспомогательный персонаж, не имеющий собственной биографии, и поэтому ему может быть приписана любая роль, в том числе роль Наполеона, что и происходит в шутливом контексте одного из эпизодов романа (Т. 3. Часть вторая, XIII).
***
Встреча с Наполеоном не всегда была желаемым биографическим фактом. Иногда ее пытались забыть, по тем или иным соображениям вычеркнуть из биографии, она оказывала пагубное влияние на всю дальнейшую судьбу и репутацию. Так случилось с отцом Александра Герцена, Иваном Алексеевичем Яковлевым. Его встреча с Наполеоном произошла в оккупированной французами горящей Москве, где процветали грабежи и мародерство. Яковлев получил от Наполеона письмо к императору Александру I с предложением мирных переговоров, которое ему было поручено отвезти в Петербург. О свидании Яковлева с французским императором в отечественной мемуаристике до конца 1830-х годов существовала некая фигура умолчания. Об этом предпочитали не писать, а если и писали, то имени Яковлева не называли. Это событие стало едва ли не пятном на биографии отца Герцена. Дело в том, что согласно официальной пропаганде все жители Москвы, верные российскому императору, должны были покинуть город (чего в реальности, конечно, не было). Те же, кто остался, «были окружены атмосферой морального осуждения», особенно подозревались те, кто вступал по тем или иным поводам в отношения с французским командованием. Такие москвичи уже после освобождения Москвы были подвергнуты полицейскому наблюдению. Встреча с Наполеоном отразилась на судьбе Яковлева самым пагубным образом. Он попал в многолетнюю опалу, ему было запрещено посещать Петербург, в результате чего остаток дней он практически безвыездно провел в Москве, ведя очень замкнутую жизнь, стараясь лишний раз вообще не напоминать о себе. Именно поэтому Яковлев очень долго медлил с удовлетворением просьбы Михайловского-Данилевского описать свое свидание с Наполеоном и согласился только после того, как историк обещал ему похлопотать о возвращении из вятской ссылки сына. Обещание это Михайловский-Данилевский, получив на руки текст Яковлева, который он затем и включил в свое повествование с соответствующей ссылкой[39], тут же предал забвению[40]. Несмотря на нежелание вспоминать встречу с Наполеоном и «умолчания» до определенного времени в бумагах современников, встреча эта «сделала» Яковлеву биографию. Д. Н. Свербеев, рассказывая о своем знакомстве с Герценом в 1840-х годах, вспоминал: «Отцом Герцена… был тот Иван Алексеевич Яковлев, который отчасти сделался известным по своему свиданию с Наполеоном в объятой пламенем Москве в 1812 году»[41].

Примечательно, что Яковлев со своей историей встречи с Наполеоном попал на страницы «Войны и мира»: «Наполеон призывает к себе ограбленного и оборванного капитана Яковлева, не знающего, как выбраться из Москвы, подробно излагает ему всю свою политику и свое великодушие и, написав письмо к императору Александру, в котором он считает своим долгом сообщить своему другу и брату, что Растопчин дурно распорядился в Москве, он отправляет Яковлева в Петербург» (Т. 4. Часть вторая. IX). Яковлев выглядит здесь более жалким, чем сам французский император, он не размышляет ни о ничтожности Наполеона, как князь Андрей, ни о его странности, как Николай Ростов, он еще более эпизодичен, чем Лаврушка. Он не понимает даже, зачем и куда посылает его Наполеон, а озабочен лишь «приобретением шинели и повозки», да и Александр у Толстого «не принял этих послов (Яковлева и Тутолмина. — А. Г.) и не отвечал на их посольство». Современники были уверены, что Толстой «об Ив. Алекс. Яковлеве как-то нехорошо помянул», а Герцен, посвятивший в «Былом и думах» этому эпизоду жизни отца несколько страниц, был возмущен, обвиняя Толстого в незнании источников[42].
Надворный советник, чиновник Вотчинного департамента Алексей Дмитриевич Бестужев-Рюмин, привлекался к специально организованному следствию, был арестован и допрашивался в высочайше учрежденной комиссии для исследования поведения и поступков некоторых московских жителей во время занятия столицы неприятелем. В отличие от Яковлева, к следствию не привлекавшегося, Бестужев-Рюмин совершил в глазах государства гораздо более существенные «грехи». Пытаясь спасти от уничтожения бумаги своего департамента, он встретился с Наполеоном по собственной инициативе, а после второй, уже случайной встречи он был включен как лично известный Наполеону человек в состав Московского муниципалитета, специального органа управления городом, созданного французами во время оккупации. Несмотря на то что по высочайшему Манифесту от 30 августа 1814 года Бестужев-Рюмин был прощен вместе с остальными «заблудшими», которые «пристали к неправой, Богу и людям ненавистной стороне злонамеренного врага», арест, нахождение под следствием и последующее лишение пансиона доставили ему немало неприятных минут[43]. О подробностях пребывания Бестужева-Рюмина в оккупированной Москве известно из его рапорта на имя министра юстиции И. И. Дмитриева. В 1815—1817 годах Бестужев-Рюмин писал мемуары, которые должны были состоять из трех отделений. По сей день известно и опубликовано лишь первое отделение, в котором повествуется о происшествиях в Москве перед вступлением в нее французов. Другие два отделения утеряны. В архиве А. И. Михайловского-Данилевского, из письма которому Бестужева-Рюмина и выясняется с неопровержимой точностью трехчленный состав его записок, также содержится авторская копия лишь первого отделения[44]. Не говорит ли сам факт исчезновения двух остальных частей о том, что они либо не были написаны, либо были уничтожены автором, не желающим возвращаться к столь неприятным для него воспоминаниям?
Адмирал Павел Васильевич Чичагов в общественном мнении и последующей историографии остался человеком, провалившим Березинскую операцию и не сумевшим взять в плен Наполеона. Тут можно вспомнить и язвительные стихи Г. Р. Державина, и басню А. И. Крылова, и тот факт, что В. А. Жуковский, по его собственному признанию, «выкинул» из «Певца во стане русских воинов» строки, посвященные Чичагову, «после той проказы, которую он с нами сыграл на переходе Березиной»[45]. Между тем сегодня уже ясно, что виноват в том, что Наполеону удалось переправиться, был не только и даже не столько Чичагов, сколько командующие двумя другими участвовавшими в операции армиями — Михаил Кутузов и Петр Витгенштейн. После сражения Кутузов в рапортах и частных разговорах обвинял в неудаче не только Чичагова, но и Витгенштейна, и даже Ефима Чаплица, командующего авангардным корпусом в армии Чичагова[46]. Однако единственным виноватым в общественном мнении остался Чичагов, несмотря даже на апологетические записи о нем некоторых современников. Можно предположить, что роковую роль в «Березинской» репутации адмирала сыграла встреча с Наполеоном, о которой говорилось при дворе Александра I, однако почти ничего не известно в историографии. Французский посол при русском дворе маркиз Арман Коленкур сообщал министру иностранных дел Жану-Батисту Шампаньи о том, что Чичагов был приглашен в Мальмезон, загородную резиденцию Наполеона, и что этим был недоволен русский посол во Франции князь Куракин, которого не сочли нужным проинформировать. В другом письме он утверждал, что Чичагов — «друг Франции, человек, на которого можно рассчитывать»[47]. Слава личного наперсника Наполеона и франкомана, видимо, и сыграла с адмиралом злую шутку. Судьба его оказалась сломанной, как и судьба Яковлева. Получив репутацию едва ли не предателя, он в 1814 году уехал из России, а в 1834 году, ответив отказом на требование Николая I о возвращении, навсегда потерял право вернуться. Он умер в Париже, тяжело больной, одинокий и всеми забытый[48].

***
Приписывание себе и другим наполеоновских черт, сравнение с Наполеоном можно также наблюдать в определенных биографических построениях. В XIX веке русский человек мог не видеть Наполеона, не говорить с ним, и тем не менее образ французского императора становился фактором, конструирующим биографию. Это происходило посредством (само)сравнения с Наполеоном. «Тем более интересны случаи, — писал Ю. М. Лотман, — когда именно природой данная внешность истолковывается как знак, то есть когда человек подходит к себе самому как некоторому сообщению, смысл которого ему самому еще предстоит расшифровать (понять по своей внешности свое предназначение в истории, судьбе человечества и т. д.)»[49].
Из исторических личностей здесь следует назвать, конечно, Павла Пестеля и Сергея Муравьева-Апостола. «И сие-то самое сходство с великим человеком, — вспоминал протоиерей Петр Мысловский, — всеми знавшими Пестеля единогласно утвержденное, было причиной всех сумасбродств и самих преступлений». То есть, по крайней мере в восприятии современников, после казни сравнение с Наполеоном конструировало биографию лидера Южного общества. Варвара Оленина прямо указывала на роль внешнего сходства с Наполеоном как на поведенческий мотиватор: «Сергей Муравьев-Апостол… имел… необычайное сходство с Наполеоном I, что, наверно, немало разыгрывало его воображение»[50]. Здесь интересно, что сравнения эти как бы раскрывают Наполеона с двух его мифологических сторон — белой и черной. Если сравнение Пестеля с Наполеоном — это честолюбие, тиранство, стремление к неограниченной власти, то Муравьев-Апостол, обладавший, по выражению М. Ф. Шугурова, «тайной обаятельного действия личности на людей»[51], для современников был человеком, выдающимся своими талантами и душевными качествами, он был антипод Пестеля и вполне осознанно противопоставлялся ему в том, что касалось как личностных качеств, так и положения в заговоре[52].
Понятно, что и в этом аспекте существуют литературные аллюзии, когда с Наполеоном сравнивают себя — или сравниваются окружающими — литературные герои. В образе пушкинского Германна, профилем напоминавшего Наполеона, уже заложена некая претензия на исключительность, претензия на биографию.
Слабоумный князь К. из «Дядюшкиного сна» Достоевского, помимо того что рассказывает о встрече с Наполеоном во сне, еще и сравнивает себя с ним («Знаешь, мой друг, мне все говорят, что я на Наполеона Бона-парте похож... а в профиль будто я разительно похож на одного старинного папу? Как ты находишь, мой милый, похож я на па-пу?»), получая при этом снисходительное одобрение собеседника Мозглякова («Я думаю, что вы больше похожи на Наполеона, дядюшка»). Марью Александровну Москалеву, также выведенную в этой повести Достоевским, сравнивали с Наполеоном «в шутку ее враги, более для карикатуры, чем для истины». Здесь, в отличие от безусловно положительного сравнения князя К., в отношении к Москалевой отражена другая, отрицательная, сторона наполеоновского образа, как в паре Пестель — Муравьев-Апостол.
И, конечно, с Наполеоном, которого «выпустили с острова Елены», сравнивают Чичикова, приходя к выводу, что «лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдает на портрет Наполеона». Сравнение это происходит именно потому, что чиновники ничего не знают о своем госте, и внешнее сходство дает повод сочинить его биографию.
В эстетике романтизма встреча с Наполеоном, героем, овеянным демоническим притягательным ореолом, оценивалась, за редким исключением, как жизненный эпизод, создающий биографический нарратив. И даже те, кто относился к самому Наполеону сдержанно, как, например, Павел Тучков или Лев Нарышкин, признавали несомненную ценность наполеоновских эпизодов для конструирования биографии, поэтому, уступая просьбам А. И. Михайловского-Данилевского, подробно их описывали. Собирая материалы для своих трудов о войнах с Наполеоном, Михайловский-Данилевский уделял особое внимание тем их участникам, кому выпал случай лично беседовать с французским императором. Подобные встречи часто навязывали биографию даже тем, кто этого не хотел, например, Яковлеву или Чичагову.
Литература эпохи романтизма вполне поддерживала такое восприятие. Это можно наблюдать, например, в романах Зотова и Булгарина, изображающих встречу с Наполеоном как важное событие в жизни главного героя.
С отходом от романтизма ситуация начинает меняться. Толстой, показавший на страницах «Войны и мира» кумира Европы ничтожеством, недостойным места в истории, низводит и эпизод встречи с ним до биографически незначащего. Да и сама биография отдельной личности имеет для Толстого второстепенное значение. Гораздо важнее для него жизнь народа.

Герои Достоевского, рассказывая о встрече с Наполеоном, пытаются создать себе репутацию исторической личности. Романтический миф развенчивается несколько иными средствами, чем у Толстого. Толстой снижает Наполеона в восприятии героя, с ним встречающегося, что в свою очередь возвышает героя. В художественном мире Достоевского образ Наполеона снижен не восприятием возвышенного героя, а наоборот, ничтожность героя переносится на образ Наполеона, написанный почти по романтическим канонам.
***
Встреча с Наполеоном как биографический сюжет характерна не только для русской, но и для европейской культуры в целом (не говоря уже о культуре собственно французской, в которой данные биографические конструкты, по причинам принадлежности к ней самого Наполеона, чрезвычайно специфичны). Намечу лишь некоторые контуры.
На немецких территориях, которые император французов мыслил как часть своей обширной державы, встречи были инициированы им самим и вписывались в его культурную политику. Отсюда и выбор собеседника.
В 1807 году, вскоре после того как прусские войска были разгромлены под Йеной, Наполеон встретился в Берлине с историографом Иоганном Мюллером, которому при прусском дворе было поручено написать историю Фридриха II. Мюллер был настолько поражен гением Наполеона, что изменил своим прежним убеждениям, перейдя на службу к французскому императору (укажем в скобках, что вскоре, однако, его ждало разочарование на поприще карьеры).
Через год в Эрфурте для Наполеона была организована большая «культурная программа», в рамках которой состоялось его общение с Иоганном Гете и Кристофом Виландом, двумя поэтами из знаменитой «веймарской четверки» (Шиллера и Гердера к тому времени уже не было в живых). Гете написал об этом событии отдельный биографический очерк, впрочем, очень краткий[53]. Оставил об этом воспоминания и Шарль Талейран, для которого главной была историчность события, а не его биографическая значимость. Однако именно событие историческое имеет для биографии первостепенную ценность[54]. «Молодые академики (члены литературного общества в Веймаре, группировавшиеся вокруг Гете и Виланда и специально приехавшие в Эрфурт), опасаясь, чтобы память не изменила им, успели уже уйти, для того чтобы записать все слышанное ими», — вспоминал Талейран об одном из приемов, устроенных Наполеоном[55].
К тому же типу, восходящему к ситуации «воитель и мудрец», относится (при всех различиях) общение с Наполеоном крупнейшего польского ученого, ректора Виленского университета Яна Снядецкого, в Вильне летом 1812 года. Воспоминание об этом потомки Снядецкого бережно хранили среди семейных преданий. Для мужа племянницы ученого, польского историка Михала Балиньского, очерк о Яне Снядецком и Наполеоне послужил отправной точкой в составлении фундаментальной биографии знаменитого родственника[56]. Однако это уже совсем другая история и тема для отдельного исследования.
[1] Любая (авто)биография — моделирование жизнеописания усилиями нарратора, т. е. рассказчика, в первую очередь в рамках Я-повествования (Ich-Erzählung), впрочем, как любого другого, в данном случае вторичного по отношению к первому. С этим связаны проблема конструирования идентичности и стремление человека к самомоделированию посредством отбора жизненных эпизодов, осмысляемых как событие. Таким образом происходит «осюжетование» своего жизненного опыта, его «переиначивание», придание ему целостной структуры, образуется биографический конструкт, который создает «нарративную среду рефлексии» через отсылки ко времени, действию и событиям (см. об этом: Рождественская Е. Ю. Нарративная идентичность в автобиографическом интервью // Социология: Методология, методы, математическое моделирование. 2010. № 30. С. 5—26; Вертынская Л. А. Наука и образование в XXI веке: Сб. науч. трудов по мат. Международной научно-практической конференции 30 декабря 2013 г. М.: АР-Консалт, 2014. Ч. VIII. С. 31—32). Статья написана при поддержке Программы стратегического развития РГГУ.
[2] Лотман Ю. М. О Хлестакове // Избранные произведения: в 3 т. Таллинн: Александра, 1992. Т. 1. С. 344.
[3] Лотман Ю. М. Литературная биография в историко-культурном контексте // Там же. С. 371.
[4] Там же. С. 376.
[5] Давыдов Д. В. Тильзит в 1807 г. // Сочинения Дениса Васильевича Давыдова: [в 3 т.] / Сост. А. О. Круглым. СПб.: Издание Евг. Евдокимова, 1893. T. I. С. 313—314 (Ежемесячное приложение к журналу «Север» за январь — март).
[6] Щербатов А. Г. Мои воспоминания / Вступ. ст. и комм. О. И. Киянской, подгот. текста А. А. Ширяевой. СПб.: Нестор-История, 2006. С. 60.
[7] Михайловский-Данилевский А. И. Описание второй войны императора Александра с Наполеоном в 1806 и 1807 годах. СПб.: Типография Штаба Отдельного корпуса внутренней стражи, 1846. С. 119 и 290—291.
[8] Шевырев С. П. Князь Алексей Григорьевич Щербатов // Москвитянин. 1849. Ч. 1. Кн. 1. № 3. С. 28.
[9] Харкевич В. И. 1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников. Материалы Военно-ученого архива Главного Штаба / Издано при содействии Штаба Виленского военного округа: В 4 вып. Вильна: Типография Штаба Виленского военного Округа: 1900—1907.
Вып. 4. 1907. С. 49—59. Полный текст записок опубликован в: Щербатов А. Г. Мои воспоминания. СПб.: Нестор-История, 2006.
[10] Эпизод Аустерлицкого боя // Русская старина. 1890. Т. 68. Кн. 10 (октябрь). С. 209.
[11] Михайловский-Данилевский А. И. Описание первой войны императора Александра с Наполеоном в 1805-м году. СПб.: Тип. штаба Отдельного корпуса внутренней стражи, 1844. С. 206—208.
[12] См.: Соболевский С. А. Письмо Бартеневу П. И., б/д // Л. Н. Толстой. М.: Изд-во Гос. лит. музея, 1938. [Т. I]. С. 259—260 (Летописи Государственного литературного музея; Кн. 12).
[13] См. об этом: Николай Михайлович, вел. князь. Князья Долгорукие, сподвижники императора Александра I в первые годы его царствования: Биографические очерки. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб.: Эксп. заготовления гос. бумаг, 1902. С. 16—31.
[14] Михайловский-Данилевский А. И. Описание первой войны императора Александра с Наполеоном в 1805-м году. С. 165.
[15] Михайловский-Данилевский А. И. Описание Отечественной войны 1812 года. СПб.: Военная типография, 1839. Ч. I. С. XIV.
[16] Посылка генерал-адъютанта Балашева к императору Наполеону // Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников (1812—1815). СПб.: Тип. Н. Глазунова, Эггерса и Ко, Н. Киммеля, 1882. С. 14—32 (Записки Имп. академии наук. Т. XLVIII); Исторический вестник. 1883. Т. XII. № 5 (май). С. 425—438.
[17] Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика. С. 217, 222.
[18] Там же. С. 220.
[19] Тучков П. А. Мои воспоминания о 1812 годе. Автобиографическая записка // Русский архив. 1873. Кн. II. № 10. С. 1928—1968.
[20] В текстах Балашева и Тучкова отмечу, между прочим, схожие выражения, по которым можно судить о характерном для Наполеона речевом поведении в сходных обстоятельствах. Так, в обоих разговорах французский император жалуется своему собеседнику на иностранцев, недостойных находиться так близко к престолу Александра I и быть его советниками. При этом Наполеон в передаче мемуаристов называет одни и те же имена.
[21] Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика. С. 106.
[22] Цит. по: Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика. С. 220.
[23] Речевое поведение Наполеона во время этой встречи вполне соотносимо в части негодования по адресу иностранцев, находящихся на русской службе, с соответствующими эпизодами мемуаров Балашева и Тучкова. Разница лишь в смещении акцента: один из обвиняемых французским императором иностранцев на русской службе — Ф. Ф. Винценгероде — был его собеседником. Отсюда бешенство и гнев, о котором пишет Нарышкин, и намеренное противопоставление Наполеоном самого Нарышкина его начальнику Винценгероде. См.: Нарышкин Л. А. [Воспоминания о войне 1812 года в форме письма к А. И. Михайловскому-Данилевскому от 3 августа 1836 г.] // В. И. Харкевич. 1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников: Мат. Воен.-учен. арх. Гл. Штаба. Вильна: Тип. Штаба Вилен. воен. окр.: 1903. Вып. II. С. 153, 167.
[24] Михайловский-Данилевский А. И. Описание Отечественной войны 1812 года. Ч. 2. С. 157—163; Ч. 3. С. 275—276, 346—348.
[25] Булгарин Ф. В. Сочинения Фаддея Булгарина: в 12 т. Изд. 2-е. СПб., 1830. Ч. 1. С. 140—146. В первой публикации подзаголовок звучал как «Из воспоминаний польского офицера» (Сын отечества. 1822. Ч. 81. № 41. С. 13—20).
[26] Киселева Л. Н. Фаддей Булгарин о наполеоновских войнах (о прагматике мемуарного текста) // Цепь непрерывного предания...: Сб. памяти А. Г. Тартаковского / [Сост.: В. А. Мильчина, А. Л. Юрганов] М.: РГГУ, 2004. С. 91—104.
[27] Чернышев А. И. — Александру I (1810) // Сборник Императорского русского исторического общества. СПб.: Тип. Имп. академии наук, 1877. Т. 21. С. 1.
[28] Муравьев-Карский Н. Н. Записки // Русский архив. 1885. Кн. 3. № 10 (октябрь). С. 227.
[29] Сироткин В. Г. Наполеон и Россия. М.: ОЛМА-пресс, 2000. С. 305.
[30] Волгин И. Л., Наринский М. М. Диалог о Достоевском, Наполеоне и наполеоновском мифе // Метаморфозы Европы. М.: Наука, 1993. С. 140.
[31] Достоевский Ф. М. Рассказы бывалого человека (Из записок неизвестного) // Отечественные записки. 1848. T. LVII. № 4. Отд. I. С. 286—306. Впоследствии Ф. М. Достоевский из двух рассказов, опубликованных под этим названием, републиковал только рассказ «Честный вор», отбросив первую часть под названием «Отставной».
[32] О возможном прототипе см.: Яновский С. Д. Воспоминания о Достоевском // Русский вестник. 1885. Кн. 1. № 4. С. 811.
[33] Подробнее о наполеоновском мифе в произведениях Достоевского см.: Подосокорский Н. Н. 1812 год и наполеоновский миф в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» // Вопросы литературы. 2011. № 6. С. 39—71.
[34] Зотов Р. М. Леонид, или Некоторые черты из жизни Наполеона // Р. М. Зотов. Собр. соч.: в 5 т. Т. 3. М.: Терра, 1996. С. 194.
[35] Там же. С. 290.
[36] Там же. С. 342.
[37] Там же. С. 405.
[38] В основе эпизода — сюжет, позаимствованный у французского историка Адольфа Тьера. Тьер описывает разговор Наполеона с пленным казаком из корпуса М. И. Платова. Понятно, что казак этот — человек без биографии.
[39] Михайловский-Данилевский А. И. Описание Отечественной войны 1812 года. Ч. 3. С. 61—65.
[40] См. об этом: Тартаковский А. Г. Переписка И. А. Яковлева с А. И. Михайловским-Данилевским // Герцен и Огарев в кругу родных и друзей. М.: Наука, 1997. С. 497—537.
[41] Свербеев Д. Н. Записки Дмитрия Николаевича Свербеева: В 2 т. М.: Тип. тов-ва. И. Н. Кушнеров, 1899. Т. 1. С. 498.
[42] Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М.: 1954—1965. Т. 8. 1956. С. 15—19; Т. 30. Кн. 1. 1964. С. 112, 381.
[43] Бестужев-Рюмин А. Д. О происшествиях, случившихся в Москве во время пребывания в оной неприятеля в 1812 году // Чтения в императорском обществе истории и древностей российских. 1859. Кн. II. Смесь. С. 163—179; Киселев Н. Дело о должностных лицах Московского правления, учрежденного французами в 1812 г. // Русский архив. 1868. Кн. I. Вып. 6. Ст. 881—903; Тартаковский А. Г. Население Москвы в период французской оккупации 1812 года // Исторические записки. 1973. Т. 92. С. 356—379; Болдина Е. Г. О деятельности Высочайше учрежденной комиссии для исследования поведения и поступков некоторых московских жителей во время занятия столицы неприятелем // Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы. М.: Калита, 2001. С. 30—63; Земцов В. Н. Московский муниципалитет при Наполеоне: коллаборационизм образца 1812 года // В. Н. Земцов. 1812 год. Пожар Москвы. М.: Книга, 2010. С. 48—66.
[44] Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика. С. 121—122.
[45] Письма В. А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. М.: Университетская типография, 1895. С. 98.
[46] См. об этом: Васильев И. Н. Несколько громких ударов по хвосту тигра. Операция на Березине осенью 1812 года и реабилитация адмирала Чичагова. М.: Рейтар, 2001 (Ист. серия «Рейтар». № 21). С. 4—10, 312—324.
[47] Николай Михайлович, вел. кн. Дипломатические сношения России и Франции: в 7 т. СПб.: Эксп. заготовления гос. бумаг, 1905. Т. 4. С. 242 и 273.
[48] Выражаю искреннюю благодарность профессору В. С. Парсамову, указавшему мне этот сюжет.
[49] Лотман Ю. М. Декабрист в повседневной жизни // Указ. изд. С. 333.
[50] Мысловский П. Н. Из записной книжки протоирея П. Н. Мысловского // Русский архив. 1905. Кн. 3. № 9 (сентябрь). С. 132—133; Письма В. А. Олениной к П. И. Бартеневу // Декабристы (Материалы). М.: Изд-во Гос. лит. музея, 1938. С. 485 (Летописи государственного литературного музея. Кн. 3).
[51] Шугуров М. Ф. О бунте Черниговского полка // Русский архив. 1902. Кн. II. № 6. С. 284.
[52] См. об этом: Нечкина М. В. Кризис Южного общества декабристов // Историк-марксист, 1935. № 7. С. 30—47, Киянская О. И. Павел Пестель: Офицер, разведчик, заговорщик. М.: Параллели, 2002. С. 126—131.
[53] Гете И.-В. Беседа с Наполеоном // Собр. соч.: В 10 т. М.: Худ. лит., 1980. Т. 9. С. 436—438.
[54] Г. О. Винокур писал о «социальной действительности», о «неисчерпаемом обилии фактов», в котором биограф «принужден производить известный отбор»: «Смерть Наполеона есть столько же факт политической истории Европы, сколько факт личной жизни Пушкина». Биографические же события могут быть рассмотрены «в проекции на другой предмет»: «Можно, напр., смотреть на рождение Пушкина не только как на факт его биографии, но также как на дату в истории русской или европейской литературы» (Винокур Г. О. Биография и культура. Русское сценическое произношение. М.: Русские словари, 1997. С. 33—35). В данном случае можно рассматривать мемуары Гете и Талейрана как воплощение различных «проекций» одного и того же события.
[55] Талейран Ш.-М. де. Мемуары. М.: Изд-во ИМО, 1959. С. 211.
[56] См. об этом подробнее: Федута А. И. Наполеон и Ян Снядецкий (К вопросу о семиотике поведения государя) // А. И. Федута. Письма прошедшего времени: Материалы к истории литературы и литературного быта Российской империи. Минск: Лимариус, 2009. С. 162—179.
