Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Преобразование российской науки: политические традиции и политический проект
«Все бросили работу… Дома для мужских собраний открывались, оттуда выносили сакральные предметы, которые никогда никому нельзя было показывать, а теперь их показывали женщинам, после чего сжигали или растаптывали… Люди готовились к великому дню. Во многих селениях расставлены были длинные столы, накрытые по обычаю белых, вплоть до вазочек с цветами на столах. Папуасы восседали за ними подобно белым. И в остальном они вели себя как белые. Можно было видеть вождей, которые муштровали соплеменников, как муштруют рекрутов белые сержанты. Некоторые торжественно шагали с книгой в руках, сосредоточенно читая ее, хотя в буквах вовсе не разбирались. Казалось, все это сущий бред. Но папуасы знали одно: их жизнь до сих пор была совершенно бессмысленна, и отныне все должно будет измениться и изменится… папуасы должны стать белыми и станут ими.»[1]
Это событие, имевшее место в 1919 году среди папуасов Новой Гвинеи, западному исследователю кажется вполне корректной типологической параллелью тому состоянию, в которое регулярно попадает российское общество в ходе радикальных попыток модернизироваться (по западному, разумеется, образцу). Итак, папуасы воспринимали переход в мир промышленной цивилизации, как переход в мир иной (и, естественно, через все предсказанные перипетии конца света). В особенности, как считают антропологи, ситуацию обостряло то обстоятельство, что папуасы считали цивилизацию белых родственной, так как их предки, которым надлежало вернуться с того света с богатыми подарками, согласно мифам, были именно белыми. Впрочем, как и следовало ожидать, со временем новогвинейские аборигены преодолели состояние массового помешательства и стали жить по-прежнему.
На мой взгляд, независимо от того, насколько корректно приведенное сравнение, иронический потенциал подобных культурологических параллелей имеет самостоятельную ценность — как средство от традиционного русского соблазна: повсюду выискивать свидетельства нашей уникальности и в зависимости от обстоятельств то записывать каждую национальную особенность в роковые недостатки, то в предметы благоговейного почитания.
Во всяком случае никакой уникальности нет в том, что мы каждую эпоху радикальных преобразований завершаем если и не возвращением общества в исходное состояние, то хотя бы попытками собрать и восстановить порушенные сгоряча святыни, осознанием того, что в очередной раз потерявши «восточный» путь, мы потерялись и на «западном». Религиозная терминология («святыни») тем более уместна, что практически под всякую масштабную социальную реформу у нас в качестве фундамента подводится та или иная идея массового покаяния. Для того чтобы объединить разрозненные славянские племена в единую Русь, надо было покаяться в язычестве и принять новую религию; для того чтобы завершить создание царства, нужна была Александрова слобода с кающимся царем-игуменом; для того чтобы создать империю — покаяние в невежестве и технической отсталости.

Тут, правда, в русской жизни возникает элемент, в отношении которого традиционный для России круговой дрейф между «покаянием» и «восстановлением святынь», казалось бы, невозможен. Я имею в виду то, что традиционные для нашей истории жесткие переходы от реформаторства к охранительству и наоборот в принципе не должны чувствительно влиять на состояние российской науки и положение ученых. По той простой причине, что для последних нет и не может быть никакого «исконного» конкурента, поскольку никакой науки, кроме той, что была создана Западом, не существует в природе.
Известно, однако, что вопреки этому здравому логическому умозаключению, реформы последнего десятилетия оказались чрезвычайно болезненными для русской науки, вполне приблизив ее к состоянию свергнутого кумира. Да и не только они: радикальная попытка прорваться в сообщество развитых государств мира, как это ни удивительно, не впервые дает жалкие результаты в отношении научного потенциала страны. У этого обстоятельства может быть два объяснения: либо сама наука наша, либо связи ее с упомянутой исторической традицией — не вполне то, чем мы их себе представляем. («Умом Россию не понять» в качестве объяснения я рассматривать не буду.)
Наука — не наука, университет — не университет, а слава…
Итак, современный кризис отечественной науки на исходе второго десятилетия после провозглашения курса на модернизацию и ускорение социального развития — не уникальный казус отечественной истории. По прошествии XVIII века, века, на который пришлась, пожалуй, самая известная попытка модернизации русского общества по западному образцу, например, выяснилось, что России не под силу укомплектовать профессорами и преподавателями три(!) университета. (Не смогли подготовить достаточно специалистов за какие-то восемьдесят лет неустанного просвещения российского общества — если считать от создания Академии наук до куда менее знаменитых реформ 1800-х годов.) Причем, речь шла не только о двух вновь открываемых - Казанском и Харьковском университетах. Не было кадров и для полвека уже просуществовавшего Московского. И вот Александру I, как задолго до него Петру, пришлось объявлять призыв иностранцев на службу в русской науке.
На самом деле удивляться подобному итогу модернизаторских реформ XVIII века не приходится. Дело в том, что Петр I по сути создал муляж Академии наук. Жизнеспособным его детище никоим образом не могло оказаться в стране, где практически не было лично свободных работников, а промышленная революция и не брезжила еще в ряду осознанных потребностей общества, иначе говоря, в стране, где не было и не могло быть спроса на продукцию научного сообщества. Недаром вопрос о социальном статусе ученого решался в России куда как неспешно, так что на протяжении всего XVIII века академик (ученый) в общественном мнении практически не отличался от домашнего учителя — какого-нибудь Цифиркина при дворянском недоросле. Типична в этом плане жалоба Георгия Штеллера, командированного от Академии в экспедицию на Камчатку: «Яко простой солдат и за подлого от него, Беринга, и прочих трактован был»[2].
Ничем, кроме муляжа, не могла быть Академия наук и из-за отсутствия в стране системы образования. К моменту создания Академии разве что в западнорусских землях имелись осколки традиционной средневековой системы, которую Петр же и разрушил. Прежде всего он это сделал в порядке профилактики малороссийского сепаратизма. Мазепа, к несчастью, был чрезвычайно щедрым покровителем Киевской академии. Для царя подобный факт послужил поводом к высылке части ученой братии на рытье Ладожского канала и к фактическому запрету на книгоиздательскую деятельность в Киеве. Причем эта бестрепетная жестокость по отношению к собственному культурному достоянию объясняется не столько личностными особенностями царя, сколько логикой покаяния как тотального отречения от собственного прошлого. Недаром человек принципиально другого склада — патриарх Никон — не задумался отбросить традиционные формы богослужения в ходе своих печально известных преобразований, несмотря на прямые предостережения Константинопольского патриарха Паисия. Те же учебные заведения, что создавал сам Петр, не были организованы в систему, позволяющую регулярно подпитывать кадрами научное сообщество. И лишь то обстоятельство, что к петровским школам «не идут ни их официальные звания, ни наши социальные и учебные классификации»[3], позволяет иногда беспардонно увешивать лаврами фигуру весьма спорного просветителя.
Екатерина II, в свою очередь, создавала муляж первого национального университета. Увы, для подобного утверждения есть очень веские основания. Так, за все время ее царствования ни один студент не получил диплома на медицинском факультете, а на двух других факультетах единственного университета страны подготовленных специалистов можно было по пальцам перечесть. Более того, за тридцать лет с 1755 года численность студентов сократилась в нем со 100 до 82. Причем среди профессуры водились, по словам Александра Герцена, чудеса, вроде Фердинанда Рейса, который «попал в профессора химии, потому что не он, а его дядя занимался когда-то ею… старика пригласили в Россию; ему ехать не хотелось — он отправил вместо себя племянника»[4].
Остается лишь изумленно отметить, что Петр I и Екатерина II оказались покрыты славой, противоположной по знаку, хотя и сопоставимой по абсолютной величине с той, которую заслужили реформаторы последнего десятилетия ХХ века. Казалось бы, почему? Ведь и те и другие добились идентичных результатов — в том смысле, что их заботами отечественная наука оказалась в состоянии, требующем безотлагательной реанимации.
И все-таки распределение славы — не случайный каприз фортуны.
В XVIII веке российская власть принципиально не обращала внимания на специфику общественного строя России и «эталонных» европейских государств. В фундаменте тогдашних реформ лежало убеждение, что Россия и Западная Европа развиваются в едином историческом русле, что не существует никакого особого «русского духа», самобытности, отличающей и противопоставляющей нашу историю истории Западной Европы. «Мы сказали и повторяем: до царствования царя Федора Ивановича мы шли ровным шагом со всеми прочими нациями Европы, за исключением, может быть, Италии, и лишь смуты, последовавшие за смертью этого государя, замедлили наше развитие»[5].
Цари-просветители полагали, что ученых достаточно привезти в Россию, а дальше наука сама пойдет развиваться, как в Германии или во Франции. Следует отметить, что основанием для подобных надежд был не ошибочный результат научной экспертизы, а скорее — традиционная установка нашего общественного сознания воспринимать себя частью христианского мира (и за отдельными исключениями, лучшей). Как же мы могли не идти при этом «ровным шагом со всеми прочими нациями Европы»?
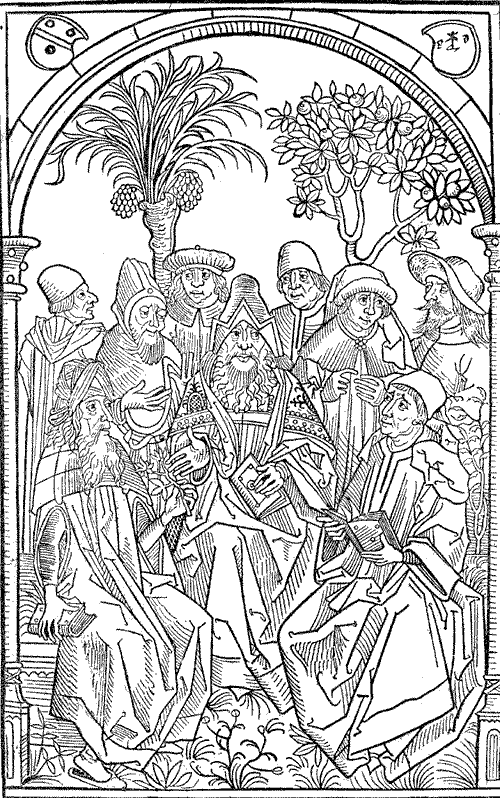
Эта иллюзорная надежда во многом способствовала тому, что русская наука в XVIII веке так и не смогла превратиться из номинального в реальный элемент российской жизни. Научное сообщество не могло «прирасти» к чужеродному для него социальному организму. Однако власть — единственный организатор и покровитель науки в России – довольно долго мирилась с подобной ситуацией. Причина в том, что проект «Российская наука» был для нее по преимуществу проектом внешнеполитическим.
Он, несомненно, поддерживал престиж и амбиции страны в международной политике. Недаром Петр, создавая во время Северной войны положительный образ России в общественном мнении Европы, щедро оплачивал не только соответствующие публикации в газетах, но и публичные посвящения научных трудов особам царской фамилии и русским царедворцам (через барона Гюйссена, например). Недаром, когда в 1768 году французский путешественник аббат Шапп д’Отрош написал про «колонию ученых», что «гений большинства из них словно угас с переселением в Россию»[6], гневную отповедь ему не поленилась дать сама императрица.
Правда, вся в хлопотах по созданию имиджа просвещенной монархии, царица, по-видимому, считала, что оказание поддержки гонимым во Франции энциклопедистам — более эффектная и, не исключено, дешевая кампания в рамках проекта, нежели выведение российской науки на передовой европейский уровень.
Серьезность отношений власти к делу организации науки как внешнеполитическому проекту в какой-то мере обеспечило российской науке нечто большее, нежели статус потемкинской деревни, и в плане «внутреннего употребления».
Проект волей-неволей способствовал закреплению в общественном сознании идеологического эталона взаимодействия государства с научным сообществом. Согласно этому эталону попечение о науке для российских государей традиционно являлось ярчайшим признаком наличия в их характере ревности к такой славе отечества, которая не могла быть исчерпывающе объяснена соображениями непосредственных экономических и политических выгод, к славе, насладиться плодами коей смогут лишь потомки.
Уже у первого историка российской империи Василия Татищева эта мысль преподносится как положение, истинное не только в прямом, но и в обратном отношении: если государь обладает подлинным патриотизмом и талантом государственного деятеля, он не может не покровительствовать отечественной науке.
Воспитательный потенциал подобной пропаганды, несомненно, имел положительное влияние на русское общество. Образ монарха-покровителя науки отпечатывался в сознании россиян довольно медленно. Даже к столетнему юбилею петровского проекта не каждый помещик готов был, подражая государям, брать на себя заботы о просвещении своих людей или хотя бы признавать подобные заботы своими обязанностями. Тем не менее «Письма русского путешественника» Николая Карамзина уже переполнены сведениями о встречах с виднейшими учеными Европы, а ведь в первой четверти XVIII века русские путешественники на подобные объекты вовсе не обращали внимания[7].

Для того чтобы стало возможным врастание научного сообщества в ткань российской жизни, в проекте создания русской науки следовало усилить внутриполитическую составляющую. Если вести счет от Петра, то русское общество впервые «с известной силой направилось на предметы внутренней политики» лишь в царствование Александра I[8]. Именно в это время российское общество признает наконец за собой право на национальную самобытность. В частности, это проявляется в изобретении своеобразного стимула к развитию науки и образования: карьера государственного чиновника ставится в прямую зависимость от наличия университетского диплома. Эта идея Михаила Сперанского оказалась достаточно плодотворной, и вполне оправданный на первый взгляд скептицизм людей, хорошо знавших историю предыдущего развития русской науки (Николая Карамзина, например), был посрамлен.
К середине XIX века наше научное сообщество перестает держаться по преимуществу на иностранной рабочей силе. Поэтому, строго говоря, именно данный период должен считаться временем возникновения российской науки. Формальным аргументом в пользу такого вывода является то, что контингент академиков и профессуры формируется уже главным образом из отечественных кадров, а содержательным — то, что именно к этому времени складываются первые российские научные школы.
Итак, российская наука создавалась как государственный проект. Но ее зависимость от проекта как привнесенного извне плана развития была значительной и в более поздние времена. Эту зависимость можно называть преувеличенной в сравнении со странами, имеющими развитые институты гражданского общества, однако для государств, не имеющих подобной социальной структуры, такое положение будет не преувеличением, а нормой.
Вот эту-то особенность нашей науки и упустили из виду российские реформаторы последней волны. Если в XVIII веке и попытались построить науку, невзирая на отсутствие социально-экономических возможностей для имплантации этого института в ткань российской жизни, то при этом не оставили в пренебрежении хотя бы идеологическую сторону проекта. В 1990-е же годы наша власть оказалась слепой на оба глаза: государство, бывшее на протяжении почти всей истории существования российской науки единственным или, по меньшей мере, исключительным потребителем продукции научного сообщества и политическим гарантом его существования, оставило своего подопечного без обоих видов поддержки.
«Беспризорные» традиции
Не знаю, до какой степени может служить оправданием то обстоятельство, что причина упадка, в котором оказалась современная наука, — скорее всего не злонамеренность, а логика проведения реформ в режиме покаяния.
Советское государство волей-неволей должно было практиковать сверхжесткую опеку науки после того, как оно же и ликвидировало условия, в которых та могла бы развиваться с той мерой автономности, которая обеспечивается ей на «исторической родине». Тем самым была реанимирована аура рабской зависимости науки от государственного проекта. Этого результата достичь было нетрудно, поскольку в условиях, приближенных к «естественным», наша наука до1917 года существовала всего ничего — около 50 лет (от известных либеральных реформ 1860-х годов).
Неудивительно, что новые проекты развития науки представляли собой по существу приложения к проектам политического характера, как это было и в XVIII веке.
Но если науку в России связывает с живой действительностью политический проект, она не может быть независимой от наших политических традиций, в том числе весьма древних и глубоко укорененных.
Внешняя и внутренняя политика СССР строилась на фундаменте идеи жесткого противостояния Западу, что, в свою очередь, воскрешало из не слишком отдаленного прошлого дух национального противостояния инославным еретикам и схизматикам. Естественно, и в сфере науки выпестованный некогда православной традицией дух бескомпромиссности принес традиционные плоды.
Практика жесткого культурного противостояния приносит обычно плоды двух видов: либо национальная самобытность возводится на пьедестал, либо изгоняется на помойку. Плодом первого вида явилась идея «самозарождения» русской науки, которая стала основой официальной научной историографии в40–50-е годы. Данный проект был вызван к жизни задачей оправдать политику самоизоляции страны от мирового сообщества. В противовес ему стали созревать плоды другой разновидности, и новый проект уже был элементом политической борьбы с тоталитаризмом.
Покаявшись в массовых репрессиях, коммунистическая партия привела в действие мощный архетип народного сознания. Акт покаяния такого масштаба всю тысячу лет нашей истории заставляет рассматривать как прелюдию к радикальным преобразованиям общественной жизни, вызывает неудержимое, пожалуй, даже сомнамбулическое стремление к ним.
Однако поскольку всякое покаяние есть не что иное, как локальный конец истории (конец света), переусердствовав в подогревании чувства массовой вины, можно спровоцировать кампанию деструктивного критицизма в адрес собственной национальной истории и культуры. Это характерная опасность нашей политической жизни, актуальная и для науки в той мере, в какой та связана с политикой.
Естественно поэтому было ожидать, что вполне конструктивная вначале критика апологетической профанации истории мировой науки (теории «самозарождения») под влиянием нашего традиционного способа проводить реформы может принять вполне самоубийственные формы.
Эти формы произросли на основе двух своеобразных подходов к отечественной науке.
Во-первых, следует назвать доминировавшее в конце 1980-х — начале 1990-х годов убеждение, будто российская наука есть отводок западной культуры, в принципе нежизнеспособный в нашем культурном климате — разве что в оранжерейных условиях. Самым сильным свидетельством распространенности подобного убеждения может служить то обстоятельство, что при возрастающем во всем мире интересе к анализу жизнедеятельности национальных научных сообществ подавляющее большинство наших исследователей занимались историей западной науки.[9] Во-вторых, должно быть названо мнение, будто государство (в том числе государственная идеология) и есть прямой виновник всех трагедий и проблем нашей науки.
Что касается первой идеи, я, например, убеждена, что упомянутое выше невнимание специалистов к социальной истории русской науки в немалой степени породило пренебрежение политиков-реформаторов к судьбе отечественных ученых и проводимых ими исследований.
Вторая идея тоже содержала не самую конструктивную подсказку тем, от кого зависела судьба науки. Вполне логично, что провозглашенный нынешними реформаторами курс на «государство без идеологии» не мог не обернуться для нас в какой-то мере попыткой построения государства если не без науки вообще, то по крайней мере без политики в области науки. (Не называть же политикой само отсутствие четко поставленных национальных задач, ради решения которых государство обязывается в той или иной форме сотрудничать с сообществом ученых).
Если кто-нибудь, дочитав до этой строки, подумает, будто я хочу сказать, что нам не в чем или незачем было каяться, ошибется. Я хочу сказать о другом.
Реформаторы последней волны не смогли оценить разницы между политическими традициями. В какой-то мере реформаторы последней волны повторили ошибку своих предшественников из XVIII века. Прежние пытались создавать науку, не принимая во внимание специфику общественно-экономического строя России, а новые не сумели заметить, что за триста лет наука в России сформировалась в своеобразный социальный институт. Однако, если в XVIII веке столкновение новизны с «русским естеством» было до некоторой степени смягчено посредством политического проекта, то новые реформаторы получили полномасштабный конфликт. Они полагали, что, отказавшись от проекта, создадут какой-никакой, пусть дикий, но все же рынок, а на самом деле совершили не только то, что задумали, но и выпустили на волю без какого бы то ни было «присмотра» стихию средневековых традиций. (Других-то в нашей политической жизни практически нет по причине краткости нашей капиталистической истории).
И средневековые традиции будут противодействовать модернизации России в большей или меньшей степени до тех пор, пока у нас не сформируется гражданское общество. Причем, в большей степени — если они по-прежнему останутся стихийно необузданными.
[1]Броувер С. Парадоксы ранней русской интеллигенции (1830–1850-е гг.): национальная культура versus ориентация на Запад // Россия/Russia. Вып. 2 [10]. Русская интеллигенция и западный интеллектуализм: история и типология. М., 1999. C. 60.
[2] Фундаминский М. И. Социальное положение ученых в России XVIII века // Наука и культура в России XVIII века. Л., 1984. C. 54.
[3] Ключевский В. О. Курс русской истории. Сочинения: В 8 т. Т. IV. М., 1958. С. 222.
[4] Герцен А. И. Былое и думы. М., 1967. Ч. 1–3. C. 126.
[5] Антидот (Противоядие). Полемическое сочинение государыни Екатерины II или разбор книги аббата Шаппа д’Отроша о России // Осьмнадцатый век: Исторический сборник. М.,1869. С. 424–425.
[6] Антидот. С. 430.
[7] См.: Россия и Запад: горизонты взаимопознания. Литературные источники XVIII века. М.,2000.
[8] См.: Пыпин А. Н. Исторические очерки общественного движения при Александре I. СПб., 1871.
[9] См.: Филатов В. П. Образы науки в русской культуре // Вопросы философии. 1990.
