Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
На грани архаики и модерна
А. С. Ахиезер, А. П. Давыдов, М. А. Шуровский, И. Г. Яковенко, Е. Н. Яркова. Социокультурные основанияи смысл большевизма. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. 607 с.*
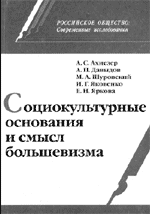
|
Эта объемная книга, изданная под грифом Международного фонда «Демократия», руководимого А. Н. Яковлевым, вобрала в себя идеи несхожих авторов — философов, культурологов, историков. Однако при всем несходстве авторских манер, книга представляет собой проблемное единство. Это, прежде всего, единство с трудами А. С. Ахиезера по российской истории, а также с работами А.А. Пелипенко и И.Г.Яковенко по общей теории культуры. В основе книги — не повествование о фактической истории большевизма и его вождей, о хитросплетениях истории партии, господствовавшей над Россией и сопредельными ей народами на протяжении трех четвертей столетия, но именно теоретический анализ.Хотя и фактографии — также немало. Но в фокусе книги — не столько даже собственно историко-партийная проблематика, сколько попытка понять дух и культуру общества, которое выдвинуло из своей среды и вознесло над собою эту«партию нового типа» и само воспроизводило тоталитарную систему, уже оказавшись у нее в заложниках (см.с.30–31). Читать это сугубо теоретическое исследование трудно и больно. Но необходимо. Ибо во многих отношениях книга эта— о нас самих. Через проблему «истоков и смысла русского коммунизма» (название знаменитого труда Н. А. Бердяева) книга вводит нас в круг напряженных размышлений о России-в-нас и о нас-в-России. Именем Бердяева я обмолвился не случайно. Его работа об «истоках и смысле» одна из, может быть, самых значительных попыток связать феномен большевизма с глубинными структурами и смыслами российской истории. Результатом оказалась своеобразная горестная апология победившего тоталитарного движения и надежды, что большевизм — сего философской бедностью, глобальными притязаниями и одновременно с его размахом эмоциональных людских чаяний — рано или поздно уступит место новым и подлинным формам человеческой солидарности и внутренней свободы. Эта бердяевская проблематика чрезвычайно сильна в книге А.С.Ахиезера и его коллег и исследуется она, быть может, не на столь мощной философской базе, но на основе нового исторического опыта и на новых рубежах социогуманитарного знания. Бердяев исходил из своей особой философской доминанты — мистической философии свободы. Познавательная доминанта наших авторовиная—стремление к расшифровке и демистификации структур человеческого общежития, психологии и культуры. Отдавая себе отчет в духовном, культурном и цивилизационном своеобразии России, авторы стараются осмыслить российские судьбы в широком контексте социокультурной истории человечества.При всей множественности локальных цивилизаций их границы всегда проницаемы. Любая из нынешних цивилизаций— включая и российскую — в той или иной мере находится в мучительном и многозначном движении от архаической, «традиционной» суперцивилизации (т. е. надцивилизационной большой человеческой общности) к суперцивилизации «либерально-модернистской» (с. 430). То есть от суперцивилизации, основанной на традиционно-общинных ценностях и связях, ограниченность которых компенсируется мощью авторитарного принуждения со стороны больших и малых «центров», — к суперцивилизации, основанной на высокотехнологических гибких связях между индивидами. Так или иначе, любая большая человеческая общность должна дать свой уникальный ответ на этот всемирно-исторический вызов, должна разработать свои формы приспособления, внести свои творческие вклады, обеспечить себе достойные позиции в этом складывающемся ныне и далеко не идилличном глобальном общежитии. Тенденции этого движения обозначились в Европе и Северной Америке уже на заре Нового времени; многотрудная проблематика этого движения во многом определила собой облик и Санкт-Петербургской, и Советской, и посткоммунистической России. Раскол между двумя суперцивилизациями и определил собой, по мысли авторов книги, основную специфику, основной трагизм отечественной истории последних трех столетий. «Раскол» (здесь рецензируемая книга продолжает круг идей предшествующих трудов А. С. Ахиезера) и выступает важнейшей характеристикой нашей истории. Причем «раскол» не просто между конфликтующими группами, — но раскол внутри массивов, групп, отдельных душ и сердец. «Раскол» как некая постоянная, ползучая, а иной раз в огне и крови вырывающаяся на поверхность жизни война между ценностями традиционного общества, традиционного быта, «традиционного космоса» (с. 123) и потребностью собирания и становления «большого общества» как сложной, над локальной, над эмпирической, государственно упорядоченной и правоупорядоченной общности народа. «Раскол — это разрыв смыслового поля, культуры» (с. 503). Раскол — это ситуация, когда полутрадиционные ценности, основанные на авторитарном, местническом,«народническом»идеале (см.с.418и след.), и системы государственной институционализации взаимно оспаривают, подтачивают и дезорганизуют друг друга, когда социальная и культурная маргинальность становится в моменты периодических «смут» чуть ли не определяющей нормой жизни. В условиях такового «раскола» сама культуротворческая сфера имеет свойство наполняться примитивным дуализмом, манихейством. Не пушкинским поиском катарсиса, примирения, диалога (по крайней мере — в самом себе), но бесконечными сетованиями на то, что «Кривда» захватила Землю и оттеснила «Правду» в небесные выси, бесконечными поисками очередного врага, «демонизацией» всего того, что несет мне или моему ближнему кругу ту или иную степень социального или психологического неудобства. Состояние перманентного социокультурного раскола, перманентного сиротского сознания культивирует в личности и обществе тот архаический комплекс, который авторы называют «инверсионной логикой» (я бы, скорее, назвал его инверсионной психо-логикой). Это — нахождение сознания и души в состоянии повышенной, поверхностной возбудимости, мгновенный переход от одних «эмоциональных крайностей» (с. 337) к другим в оценке людей, вещей, событий и идей. Это — архаическая порабощенность человека дуальными структурами психики и сознания. Действительно, ведь любой из нас, кто изучал нашу историю последних веков или же попросту внимательно свидетельствовал жизнь, замечал, как легко «рокируются» идеями, оценками и смыслами представители противоположных направлений, как мечется общество, не ища синтезов и диалогов, между крайностями идеологических постулатов, партийных программ и политических мод, как активны в рядах любого из движений перебежчики или оборотни из противоположных лагерей… Синдромы раскола и манихейства — настаивают авторы — во многом определили собой мироотношение и психологию «революционно-демократической» (т. е. народнической) интеллигенции. Еще раз впору вспомнить Бердяева, на сей раз относительно раннего, «веховского»: «интеллигентская правда» — против «философской истины». Или, если угодно, Добролюбов и Михайловский — вольно или невольно! — против Пушкина и Вл. Соловьева. «Маленький человек», с высоты своего партикулярного опыта и постулатов «народной правды», позволяет себе надменно третировать ученого, философа, поэта. Третировать— вплоть до уничтожения. «Тому в истории, — как писал Иван Крылов, — мы тьму примеров слышим…» *** Таков, как показывают авторы, самый общий социокультурный и отчасти духовный контекст нашего отечественного воинствующего марксизма. С одной стороны — притязания и обиды честолюбивого и распропагандированного «маленького человека». А с другой — неизбывная проблема соотнесения в российской жизни двух исторически «несовместных» вещей: полутрадиционной инверсионной психо-логики, задач социального и технологического обновления страны, необходимости ее приспособления к наступающей «либерально-модернистской суперцивилизации». Такой заманчивой. И одновременно — такой трудной, отталкивающей и чуждой. И не случайно авторы видят историю большевизма как великий, трагический и негативный синтез архаизма и модернизма. Не случайно же идеи «отмирания государства» (а на практике— замещение процессов государственной жизнедеятельности келейными решениями партийных «старцев» и вождей), превознесение материального над идеальным, «мудрости народной» над «учеными бреднями», магические слова о диалектике вместо осознания неустранимости противоречий бытия и социальности — все это глубочайшим образом коренится в«инверсионной», полуархаической психо-логике. Но тогда — как же быть с характерным для этого великого и страшного общественно-политического движения преклонением перед наукой и рациональностью, с культом массовой образованности и прикладных знаний? Когда даже само священноучение партии, ее теология навыворот — марксизм-ленинизм — мыслилось как некое диалектическое отождествление вершин европейской мысли и воплощенной в пролетарском классе вековечной народной правды? По мнению наших авторов, этот культ науки и высших достижений человеческого разума, отождествляемых с «бессмертными идеями марксизма-ленинизма», был опять-таки неотразимо действовавшей на психологию масс инверсией полутрадиционного, фидеистического миропонимания. Вспомним поражающие своей безапелляционностью и столь понятные неискушенному сознанию ленинские слова: «учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Здесь, по словам авторов, действовала не наука с ее критицизмом, с ее постоянной переоценкой, «ревизией» не только предметов и методов познания, но и самого субъекта познания. Здесь работала претендующая на научные ризы идеология, провозглашавшая собственные постулаты «безошибочным воплощением абсолютной истины», соединением «исторической необходимости» и «классового сознания» или даже «классового инстинкта». То бишь все той же самой «народной правды» (см. с. 62). Строго говоря, это и не архаизм и не модерн. Но, скорее, идеологическое выражение стремления значительной части российского общества не только приспособиться к трагическим цивилизационным и социоэкономическим сдвигам конца позапрошлого — начала прошлого столетия, но и любой ценой овладеть механизмами этих сдвигов, вооружить полутрадиционное общество новыми и притом упрощенными возможностями самооформления, мобилизации и власти. Утилитаризм российской революционной интеллигенции и полуинтеллигенции, да еще помноженный на комплекс научно-марксистской всеправоты и на нужды массового агитпропа, стал в ленинской партии и в жизни подвластных ей народов «повседневным элементом смыслообразования и деятельности» (с. 453). Весь этот вольно или невольно манипуляторский подход к человеческой действительности — подход, умевший сочетать в себе черты абсолютизма и конъюнктурного политического расчета, подход, беспощадный по отношению не только к «чужим», но и к «своим», сумел обескровить страну и духовно, и культурно, отчасти даже и генетически. И это обескровливание коснулось не только подвластного партии общества, но и самой партии. На всем протяжении книги авторы настаивают, что эта своеобразная, утилитаристская «диалектика», а точнее инверсия архаики и самых искренних модернизаторских устремлений, — «диалектика», столь эффективная в тактических решениях, в плане Большой Истории обернулась просчетами и катастрофой. Обернулась трагическим накоплением противоречий и — соответственно — обреченностью системы господства «единственно верного учения». Впрочем, и самые искренние модернизаторские стремления были ущербны и частичны, ибо ориентировались прежде всего на прикладные задачи мобилизации, могущества и власти. Так что после распада (точнее, трагического самораспада) большевистской цивилизации перед страной вновь встала отсроченная задача вековой давности: переход от культуры архаических мечтаний и эмоциональных крайностей к культуре, приспособленной к непрерывному и сознательному функциональному усложнению, к непрерывному процессу информационного, интеллектуального и духовного обогащения перед лицом все новых и новых жизненных вызовов и проблем. Переход от культуры самозваного авангардизма и психологических инверсий к культуре диалога. * У этой монографии есть и относительно краткий, журнальный вариант (Вопросы философии.2001. № 12; 2002. № 5). |
