Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Россия и режим глобального апартеида
Человек мыслит себя очевидцем возникновения организмов.
Ф. Ницше
Успех в организации больших человеческих сообществ обычно предопределяется выбором эгалитарного принципа, который позволяет объединять людей в функциональное единство, делая несущественными реально существующие между ними различия. В теократическом государстве, например, таким основанием может служить конфессиональная принадлежность, «нейтрализующая» различия социальные, расовые или этнические. Секулярные сообщества на первый план могут выдвигать классовый или этнический принципы, которые безразличны, например, к различиям конфессиональным. Какой же идеал, или эгалитарная утопия может лежать в основании эволюции глобального сообщества? Наиболее интересный и многообещающий ответ на этот вопрос дал, как мне кажется, известный историк Эрик Хобсбаум. Цель глобализации он видит в достижении такого положения вещей, когда, вне зависимости от того, где живет человек — в Москве, Лондоне или Антананариву — он везде имеет равный доступ к основным ресурсам жизнедеятельности. Все что стоит на пути реализации глобальной утопии будет расматриваться, поэтому, как «техническое» препятствие. Среди таких препятствий по всей видимости окажутся определенные культурные ценности, этнические, расовые или социальные различия. Речь, разумеется, не идет о том, что глобализация стремится к устранению всех различий. Многие из них она делает малосущественными и нейтральными по отношению к некоторому общему основанию.
Поскольку в статье речь будет идти об эгалитарной идеологеме, нейтральной по отношению к культурным, этническим и национальным различиям, постольку в качестве полемического фона и вводной части будут рассмотрены две обсуждаемые сегодня альтернативы: историософская и геокультурная.
1. Историософская магистраль.
Нынешние дискуссии о глобализации – новое свидетельство зависимости интеллектуалов от национального государства. Речь идет не о тривиальном факте материальной или институциональной зависимости и не о желании угождать власти ради карьерных соображений, но о трудноуловимой зависимости на уровне наших представлений и способов восприятия. Несмотря на то, что процессы глобализации стали объектом изучения самых разнообразных дисциплин, они тематизируются в некотором заранее заданном поле наглядного представления. Чаще всего, таким полем, позволяющим визуализировать глобальное пространство, является политическая карта мира. В качестве принципиальных и дееспособных игроков здесь естественно оказываются национально-государственные субъекты.
Вместе с тем, целый ряд исследователей отмечает, что с окончанием периода Холодной войны условия анализа изменились радикально. Причем связывается это изменение с общим кризисом государственного суверенитета, что вызывает естественное недоверие к картографическим моделям наглядных представлений. Разложение суверенитета национальных государств, тем не менее, не создает вакуума власти. Свято место пусто не бывает. Однако чрезвычайно трудно проследить, кем аккумулируется власть, каким образом она перераспределяется между старыми и новыми субъектами. Нам даже не всегда понятно к кому, к какой могущественной инстанции можно обратить свой надрывный призыв «скорректировать» идущий процесс глобализации.
Можно изобрести множество различных способов описания архитектуры современного глобального пространства. Его легко можно представить, например, с помощью метафоры «мирового базара». Нужно только выделить основных участников игры и распределить между ними соответствующим образом роли: респектабельных торговцев, администраторов базара, покупателей, перекупщиков, менял, теневых фигур, рэкетиров, воров в законе, «шестерок», карманников, попрошаек и пр. С равным успехом глобальное сообщество можно было бы вполне правдоподобно описать с помощью, скажем, метафоры «музея культурно-этнографических ценностей им. Хантингтона». Разумеется, если мы спроецируем на глобус первую, а затем вторую метафору, в каждом случае мы получим радикально отличные изображения не только мира, но и такого геополитического субъекта как Россия.
Если с этой точки зрения посмотреть на употребление таких географических терминов как «Запад», «Азия» или «Россия», то мы обнаружим совсем не безобидное увлечение определенным шаблоном визуализации глобального сообщества. Названия территорий, континентов и стран удобны в употреблении в качестве аббревиатур, поскольку позволяют абстрагироваться от целого ряда характеристик – экономических, культурных или социальных. Стихия языка способна превратить топонимы в свободные от географии автономные элементы, легко поддающиеся олицетворению и персонификации. Но если топонимам приписывается структура личности (подсознание, инстинкты, познающая способность или самосознание), то описание глобализации неизбежно будет осуществляться с точки зрения психологической динамики.
Даже гибридные имена, такие как «Евразия» легко организовать в подобие психологической личности, автономной самосознающей геокультурной идентичности. Термин Евразия может породить при этом самые различные психологические образы. С его помощью можно подчеркнуть, например, срединный или синтезирующий характер России. Или изобразить Россию застывшей на перепутье между восточной чувственностью, интуитивностью и западной рассудочностью, формализмом. Элементарная манипуляция с термином «Евразия» столь же просто может трансформировать восприятие России в образ убогой калеки «Азиопы». Все три образа «Евразии» «синтезируют» экономическое, политическое, культурное или этнографическое своеобразие в психологическое единство, по структуре совпадающее с личностью. Несомненно, подобная персонификация всегда была чрезвычайно удобной для установления тождества между индивидуальной и национально-государственной идентичностью. Отождествление структуры индивидуальной чувственности или «души» со структурой общества позволяет экстраполировать любые случайные индивидуально-психологические черты в единое представление о «национальном характере» и национальной идентичности, разглядеть себя самого в зеркале созданном твоим воображением.
Однако, если операции персонификации оказывается совершенно достаточно, чтобы подчеркнуть уникальность «геополитической субъективности», ее совсем недостаточно для обоснования ее самоценности и нравственного превосходства. Эта работа, как правило, осуществляется национальной гуманитарной интеллигенцией, уперто примиряющей историософские стратегии к своему национальному ландшафту. Персонифицированная национальная идентичность фетишизируется и сублимируется в сущность всех возможных отношений и обознается привычным и не требующим особой проясняющей возни термином «дух». Стратегии духо-фетишизма и персонификации эксплуатируют самые архаичные литературные жанры, вроде эпического повествования с элементами поучительной и душеспасительной притчи. Для этого, опять же, достаточно взять такие топонимы как Америка, Россия и Европа, да назвать, например, первый духом жадным и эгоистичным, второй – духом духовным и самоотверженным, а третий – духом слабым и усталым. Уже в самом выборе персонажей или характеров содержатся возможности не только для диалога между ними, – диалога культур – но и для целого ряда увлекательных геополитических интриг.
Статья Валерия Мильдона[1] «В направлении к свободе», которую я бы назвал ретроспективно-футурологической симфонией, – один из недавних и ярких примеров духо-фетишизма. Взятый им метафизический регистр кажется настолько высоким, а сила абстракции настолько мощной, что трудно не подивиться тому факту, что с нами на одной планете живут люди, которые могут написать:
«Отныне бытие человека становится связанным с духом – хочется этого нам или нет – в такой степени, как никогда прежде, и в этом тоже открытие ХХ столетия.»
За этим прозрением Мильдона кроется «историософская стратегия», способная «открыть» нам метафизический смысл любого события или процесса, в том числе политического или экономического. Вот как преображается, например, смысл деколонизации в “историософском фокусе”:
«Сколько бы ни рассуждать о политико-экономической необходимости деколонизации, у этого процесса (как у всего, что происходит в истории, т.е. с человеком) есть метафизический, или интеллектуальный, смысл, а именно: благодаря Востоку (беру понятие в широком значении, в данном случае как синоним Не-Запада) Запад осознал себя, тем самым дополнив себя собой. Осознав же, было естественно расстаться с тем, что тебе не свойственно, иначе Запад переставал быть Западом, был бы неполон. Таков смысл расставания с колониями.»
Кто такой «Запад» и какую такую невообразимую свинью подложила ему мойра, что для утоления любопытства насчет своей собственной персоны, ему понадобилось ввязаться в колониальные авантюры. Чем они его таким «дополнили», что он возвращается к себе таким духовно полным? Почему, наконец, сокращение «территориального» присутствия имярека «оборачивается расширением духовного пространства»? Видимо, понимая, что представленная картина мира находится в таком интеллектуальном измерении, которое читатель в упор не различает, что она противоречит всему тому, что он видит непосредственно вокруг себя и в своей домашней телепроруби, Мильдон утешает:
«[С]амо собой разумеется, каждодневная реальность западной жизни давала и будет давать бесконечные опровержения. Это ничего не меняет, культура всегда в значительной степени перспективна, и между ее результатами и обыденным существованием естественны и неизбежны разрывы, благодаря чему она влияет медленно, долго и связана с бытием народа через такое количество опосредованных звеньев, что их часто не удается схватить даже в неполном объеме.»
Мир, со всеми его опосредованными звеньями, которые даже в «неполном» объеме, схватить невозможно, превращается в мистификацию, за которой скрывается подлинная метафизическая реальность – культура. Повседневность, экономические и политические детали – только препятствия для интеллектуальной интуиции Мильдона. Этим, наверное, объясняется стоическая невозмутимость, с которой он говорит, что следует еще «ждать и ждать, пока названная мысль войдет в плоть и кровь политиков».

2. Остров Небуян
Дискурс геополитики не имеет столь надрывной метафизической и интеллектуальной напряженности, какую мы наблюдаем у поклонников пневматической метафоры. Но геополитики с той же страстностью пытаются экстраполировать индивидуальную, психологическую динамику на геополитическую реальность. В качестве иллюстрации можно предложить один из любимых мною образов отечественной политической науки, – «Остров Россия» Вадима Цымбурского. Она подкупает, прежде всего, своей откровенной отсылкой к островным сюжетам утопических жанров, благодаря чему подчеркивается условность и произвольность образа-посредника.[2]
Начнем с его определения термина «геокультурной субъектности»:
«Геокультурной субъектностью обладают, на мой взгляд, те из государств, которые способны самостоятельно выбирать себе «своих» и отличать их от «чужих», а также реализовывать политические проекты, основанные на такого рода различениях»[3]
Автор вносит существенное уточнение: речь идет о геокультурном пространстве, а не о пространстве политическом. Разделение между «своими» и «чужими» определяется не политическими отличиями, как у Карла Шмидта, но культурными. Однако эта оговорка не позволяет Цымбурскому избежать психологизма и персонификации в описаниях конституции мирового пространства и динамики отношений между геокультурными. России в современных конфликтах, по его мнению, угрожает «судьба шва», который, при столкновении Запада со своим «иным», должен быть «рассосан и расточен». В качестве спасительной альтернативы автор формулирует островную стратегию, то есть стратегию, способную вывести Россию за пределы этого опасного мирового противостояния.
На уровне описания, Россия предстает как цельная геокультурная личность, но когда речь заходит об инстанции принимающей решения, то культурная идентичность редуцируется к этатистской, а суверенность России сужается до суверенности государства. Аналогичной операции олицетворения подвергается вся система государственных институтов – в конечном итоге, вся полнота ответственности концентрируется в одной точке и козлом отпущения становится президент, единственная личность, обладающая суверенитетом. Дать оценку сегодняшнему геополитическому «поведению» России, означает, в таком случае, дать оценку лично президенту Путину:
«Все шло очень удачно. К сожалению, политика и поведение Путина во время кризиса двух последних месяцев во многом похоронили прежние надежды».
Если же президент не оправдал возложенных на него надежд, то можно надеяться разве что на благоприятную констелляцию звезд:
«Наша геокультурная судьба сейчас определяется в значительной степени не нами, а тем, как пойдут дела в Афганистане, насколько боеспособными окажутся абхазы после того, как российские войска уйдут из Грузии, и не возникнет ли волнений на китайской части Великого Лимитрофа, способных открыть США (и Японии) путь в «старую» Центральную Азию с востока. … Теперь нужно надеяться на удачное стечение обстоятельств, чтобы через пять-шесть лет «остров Россия» сохранил, по крайней мере, внутреннюю суверенность, не говоря уж об отыгрывании геокультурной субъектности. Причем, еще неизвестно - кто, какая элита, будет отыгрывать?»
Постановка и последующая интерпретация геополитической драмы, как мы видим, происходит в соответствие с логикой семейного скандала или соседской склоки. Разумеется, во всем этом есть своя правда. Можно легко найти примеры, когда политические элиты руководствуются в своих действиях подобной логикой. Но является ли это единственно возможным и наиболее эффективным способом поведения на глобальной арене?
Цымбурский явным образом отдает предпочтение формированию альянсов по культурным признакам. Однако было бы несправедливо утверждать, что культурные границы являются для него непроницаемыми. Автор не настаивает на последовательной и полной реализации «островного» проекта: «тезис о сжатии России как выборе пути геокультурного одиночества побуждает разрабатывать проекты сотрудничества силовых и экономических центров…». Поэтому он допускает возможность создания политическими средствами невиданных доселе геокультурных альянсов:
«Партнерство России с Китаем и Ираном окажется не просто прагматическим партнерством в сообществе «своих», как было между нациями-государствами в Европе Нового времени, но небывалым еще геоэкономическим и политическим взаимодействием соседствующих «чужих».
Чтобы геокультурная модель не была обязывающей, чтобы сохранялась возможность для разных политических альтернатив и свобода в формировании альянсов, автор вводит такие термины как «геокультурно-холодные» или геокультурно-нейтральные проекты сотрудничества. Введение «буферной» терминологии походит на небольшой косметический ремонт доктрины, в рамки которой непросто вписать некоторые эмпирические реальности.
Выразительный образ «острова Россия» подразумевает совершенно определенную прагматику действия – поведения с ярко выраженной установкой на самоизоляцию. Хочет того автор или нет. Кроме того, выделение, «культурных» принципов формирования альянсов означает фактическое признание этих факторов в качестве системообразующих принципов. Рыночная стихия и капитал рассматриваются как проявления экспансии европейской культуры, а не как силы, доминирующие над культурными различиями. В соответствие с этой логикой мы, вернее, президент, стоит перед необходимостью осуществления революционной перестройки государственных структур. Ему следовало бы так реорганизовать государственные институты, чтобы они адекватно выражали, прежде всего, этнокультурную структуру общества. В идеале это могло бы означать, что государственные институты группируются вокруг такого осевого министерства, как, скажем, Министерство культурной и цивилизационной политики. В области же внешней политики, империалистской «западноцентричной» экспансии можно было бы противопоставить свою доморощенную имперскую политику мира – что-то вроде идеологии «культур-экуменизма».
Именно статья Вадима Цымбурского «Это твой последний геополитический выбор, Россия?», воскресила в моей памяти тезис почти забытого у нас Карла Маркса. Применительно к российской «геополитической» альтернативе его можно было бы озвучить как выбор между местной тиранией и капитализмом.
3. Кубик Рубика
Как геополитика, так и гуманитарный духо-фетишизм неспособны примирить в пределах своих доктрин столь разноплановые измерения человеческой реальности как экономическая жизнь, демография, культурная и социальная политика. Мне кажется, что ради восполнения образовавшихся лакун, полезнее и интересней было бы вообще отказаться от двухмерных моделей визуализации мирового пространства (или России) и перейти к трехмерным, преодолеть «плоские» метафоры «карты/картины мира» – метафорами «кубическими», перейти от простого к более сложному. К преимуществам такой «визуальной трансформации» я отнес бы возможность добиться большей эффективности в процессе группировки и формулировки проблем и обрести более разнообразный арсенал инструментов. Во всяком случае, данная перестройка обещает гораздо меньшую зависимость от случайных констелляций геополитического базара.
В качестве поясняющей иллюстрации своей мысли мне не удалось найти ничего более наглядного, кроме популярной когда-то игрушки – кубика Рубика. Не стоит искать в аналогии с кубиком особого концептуального смысла, а тем более представлять мир в виде куба вместо глобуса. Предлагаемая форма наглядности – сугубо иллюстративна и в качестве таковой помогает вообразить просто один из возможных способов группировки проблем. Манипулируя кубиком, следовало непрерывно отслеживать и проектировать соответствия между регулярностями цвета и геометрическими поверхностями. Причем играющему для решения головоломной задачи было совершенно не важно, как устроена игрушка внутри: если вскроешь «черный ящик» – покалечишь игрушку и покончишь с игрой. Подобным же образом, можно отслеживать зависимости между разнородными и разноплановыми измерениями: экономическими, географическими, национальными, демографическими, цивилизационными и т.д.
Чистые акты мысли, веры или этического поступка существуют только как условные абстракции. Поэтому в реальном мире мы постоянно ощущаем напряженность и несовместимость между разными формами дискурса: моральным, экономическим, религиозным или правовым. Один из путей устранения этой напряженности – их инструментализация, позволяющая производить дополнительные энергии и находить средства для разрешения проблем там, где искать их никому не приходило в голову. Так, социальная политика может быть использована в качестве средства разрешения проблем экономических, а экономические – для управления национальными конфликтами, в этике же можно найти средства для решения демографических проблем. Примером подобных искусных манипуляций может служить, например, стратегия выработанная основателями Grameen Bank, которые задались вопросом: можно ли в патриархальном менталитете сельских жителей Бангладеш найти средство для решения целого комплекса социальных и экономических проблем, обычно обозначаемые как проблемы бедности. Grameen Вank в течение нескольких десятилетий доказывает, что это возможно. Во-первых, его практика показала, что в сферу кредитных отношений могут быть вовлечены самые беднейшие слои населения, в том числе, самая угнетенная его часть – женщины. Во-вторых, оказалось, что кредитование бедных может оказаться прибыльным и гарантированным бизнесом. И главное, что можно изобретать схемы целевого кредитования и приспосабливать их под самые экзотические формы менталитета. Благодаря схеме микрокредитования, разработанной этим банком, уставной первоначальный капитала в $50 долларов и достиг нынче суммы $500 миллионов.[4]
Установление междискурсивных тождеств обычно обещает наиболее интересные с прагматической точки зрения проекты. Самый главный результат, которого можно достичь подобными композиционными манипуляциями с различными дискурсивными практиками, заключается в том, что появляется возможность для формулировки стратегий, направленных на достижение нового качества социальной связанности больших социальных миров и сообществ.
4. Производство социальной жизни
Перестроечный хаос в нашей стране, который респектабельная наука назвала процессом модернизации, расстроил социальные связи, существовавшие при советском режиме. Население страны, государство, хозяйственные субъекты, отдельные люди вдруг оказались вынуждены играть по правилам, о которых знали только понаслышке. Процесс радикальной замены всех правил игры сопровождался фрагментацией социальных и экономических связей, уничтожением привычных шаблонов морального поведения, смешивал социальные роли, разрушал прежнюю советскую структуру социального воспроизводства. Культура и язык могли оказаться единственным общим знаменателем для населения, обитающего на постсоветских просторах. В политику тогда приходили филологи и поэты. Общество двигалось не столько к однородности, сколько к одномерности. В середине 1990-х правящей элите даже показалось, что у нее не осталось никаких иных доступных инструментов администрирования населением, кроме национальной идеи. Под рукой не оказалось даже такого инструмента, как бюрократия. Советская коррумпированная бюрократическая машина стала казаться образцом дисциплины и исполнительности. То, что от нее уцелело, было занято борьбой за самосохранение и не имело ни внешних ориентиров, ни целей. В этой борьбе за выживание бюрократия относилась к населению скорее как к препятствию.
По сравнению с имперским советским режимом все это выглядело свидетельством возврата к примитивным и архаическим формам самоорганизации общества. Мы двигались к тому состоянию, когда общность населения, обитающего на постсоветском пространстве, могла определяться только абстрактными культурно-географическими определениями вроде «евразийства». Пожалуй, только в таких условиях геополитика и могла стать единственно возможной формой политики. Интеллигенция могла заняться изобретением «национальной идиомы», «возглавить» процесс национального возрождения, присвоив себе роль духовного ключника и хранителя неотчуждаемой национальной тайны. Этот процесс деградации к национальным основам, или по Марксу, выбор в пользу своей «домашней тирании», до сих пор остается нашей возможностью. И как показывает история Афганистана или Чечни фрагментация может пойти еще дальше – к племенным или семейным формам, к господству натурального хозяйства и обмена, к патриархальным способам распределения благ. Долгосрочная и эффективная имперская политика не могла консолидироваться вокруг националистических или этнокультурных герметических оснований, она должна искать более универсальные принципы общности.
Архаичной, этнокультурной модели социального воспроизводства всегда существуют альтернативы. Население является носителем разнообразных социальных ценностей, которые могут быть конвертированы в более мощные интегрирующие политические практики, чем националистические и этнокультурные. Более развитые и устойчивые формы человеческих сообществ отличаются равнодушием к политике этнических различий. Они гораздо более чувствительны и восприимчивы к потребительским ценностям и возможностям, к языку налоговой или монетарной политики, чем к голосу своего этноса. Для политической практики эта отзывчивость населения означает обретение дополнительного и мощного рычага управления. «Геополитический» выбор сегодня – не выбор между этнографическими ценностями Запада или Востока, а освоение и изобретение наиболее эффективных механизмов производства социального мира, новых, крупных и жизнестойких пространств солидарности. Культурные определения друзей и врагов излишне произвольны и зависят от «шума» повседневной политики. Таких друзей столь же легко приобрести, как и обратить во врагов. Разве мы могли себе представить в недавнем прошлом товарищеский энтузиазм, с которым русские и американцы освобождают сегодня от терроризма афганцев и чеченцев?
Глобальные конфликты только на поверхности носят характер борьбы между культурными ценностями и цивилизациями. Они – лишь манифестации более глубоких конфликтов между социальными мирами, точнее механизмами производства социальных миров. С теоретической точки зрения, исход этих конфликтов всегда предопределятся тем, какая модель обладает более мощными возможностями универсализации – нейтральными или безразличными по отношению к культурным, национальным, социальным и прочим различиям. Разумеется, если подобные дискриминационные различия становятся принципами самой модели социального производства, тогда это накладывает на нее естественные ограничения роста и экспансии. Этнокультурные, национальные и религиозные машины производства человеческих спаек, замкнуты сами на себя, они нуждаются в особом микроклимате, в атмосфере камерности и герметичном куполе соборности. Хотя они имеют чахлые ограниченные возможности внешней экспансии, внутри – они устанавливают мощные социальные фильтры инновационным прорывам.
Наиболее многообещающая и эффективная в этом смысле модель родилась из конкуренции между двумя порождающими социальный мир машинами – государством и капиталом. В результате этой конкуренции население обрело два четко различимых измерения. В качестве главного производственного ресурса население стало предметом переговоров между государством и капиталом об условиях найма. Государственное подданство – не что иное, как право «владения» государства населением, - право крепостной зависимости, привязки населения к определенной территории. Однако реальное пользование и распоряжение человеческими ресурсами государство передает капиталу, за что капитал расплачивается с государством налогами. Государство, таким образом, обрекает себя на роль посредника в найме рабочей силы. Но то же самое население становится непосредственным объектом воздействий со стороны капитала и выступает уже не в своей производящей ипостаси, но – потребительской. Капитал стремится приспособиться к желаниям потребителя, поощряет его грезить о новых желаниях и, тем самым, добивается с ним подлинно интимной близости. Своей структурой капитал воспроизводит структуру потребностей населения. Потребление – ключевой мотив интеграции капитала и населения, а производство, основанное на наемном труде, – постоянная возможность их дезинтеграции. В игре этих двух различий, надписанных на корпусе социального, складывается властная государственная перемычка, устанавливающая между ними функциональный баланс.
Одним из самых распространенных клише стало утверждение, что рыночная экономика предполагает уменьшение роли государства в обществе и экономике. На мой взгляд, речь может идти только о замене прежних функций государства на новые, о смене задач и инструментов управления обществом. Закон развития капитала – максимализация прибыли и расширение экспансии. Естественно, что кроме государства (или квазигосударственных международных учреждений) не существует иной силы, способной предотвращать эксцессы неравномерной капиталистической экспансии. Современный государственный менеджмент населением ставит перед собой в качестве приоритетных целей повышение качества населения как основного производительного ресурса, который «продается» государством капиталу. Поэтому в пределах главных забот государства – повышение качества образования и потребления, общественная безопасность и страхование, здравоохранение, поддержание функционального уровня социальных различий, регуляция демографических процессов (старения, миграции и пр.).
Именно в сфере, где требуется установление баланса интересов государства и капитала, в России наблюдаются наибольшие дисфункции. Капитал уходит из России, несмотря на то, что за него идет острая конкурентная борьба, что в стране существует относительно дешевые и невостребованные трудовые ресурсы. Одна из причин – структура отечественного корпоративного капитала, ориентированного преимущественно на экспорт. Экспортная составляющая ВВП Российской Федерации достигает 40 с лишним процента, в то время, когда в развитых странах этот показатель обычно равен 10%, в США – 8%. Эти цифры демонстрируют не только степень зависимости российской экономики от внешней конъюнктуры. Они также говорят о том, что население страны интересует корпоративный капитал не в качестве потребителя, но скорее в качестве популяции для найма. Капитал ориентирован, прежде всего, на внешнего потребителя и именно к нему он и пытается приспособиться. Структура отечественного капитала в незначительной степени отражает структуру внутреннего потребительского рынка. До тех пор, пока не будет создан капитал, ориентированный на внутренний рынок, мы не сможем говорить об интенсивном воспроизводстве социальной жизни. Для решения этой задачи требуется государственное вмешательство: оно должно решительно поддержать капитал, для которого население интересно не только в качестве наемной рабочей силы, но и в качестве сильного потребителя.
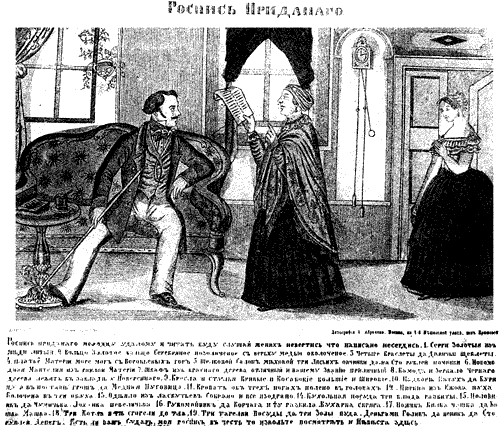
Другой, внешней причиной утечки капитала является существующий способ организации глобального хозяйства, который носит явно политический характер. С одной стороны, корпоративный капитал придал структурам производства, коммерческого обмена и финансам наднациональный характер. С другой стороны, главной формой организации населения и его социальной жизни являются национальные государства. В терминах традиционного марксистского словаря это противоречие можно описать как противоречие между свободной циркуляцией капитала и ограничением мобильности наемного труда в пределах национальных границ. Отсюда неизбежная асимметрия между государственными и корпоративными интересами. Политика экономического протекционизма развитых стран, сочетающаяся с жестким контролем иммиграции формирует особый режим, который я бы назвал режимом глобального апартеида. Дотации сельскому хозяйству и некоторым отраслям промышленного производства в развитых странах достигли таких масштабов, что практически разрушили аналогичные секторы в развивающихся странах. Их продукция стала просто неконкурентоспособной. По подсчетам экспертов Morgan Stanly развивающиеся страны, открывающие свои внутренние рынки международной торговле, обрекают на гибель те предприятия и отрасли хозяйства, уровень доходности которых ниже 15% годовых. Страны «Севера» фактически переложили социальные издержки, связанные с интенсивной индустриализацией и информатизацией своих национальных сообществ на страны «Юга». Разумеется, за разрушением хозяйственной инфраструктуры развивающихся стран следует разрушение их потребительского рынка и рынка труда. Экономическая дезинтеграция обращается в усиливающиеся потоки экономической эмиграции. Иммиграционное давление на развитые страны приобрело такие небывалые масштабы, что превратилось в проблему национальной безопасности. Контроль над миграцией стал одним из стратегических направлений деятельности НАТО. Европейское сообщество, по словам Эрика Хобсбаума, превратилось в «механизм по предотвращению иммиграции».[5]
Большинство экспертов относят проблему экономической эмиграции к неизбежным эксцессам глобализации. Однако режим глобального апартеида – это режим политический и, как таковой, представляет собой скорее препятствие глобализации, чем ее следствие. Корпоративный капитал, поддерживаемый развитыми государствами Запада, заинтересован в сохранении различий стоимости рабочей силы, которые складываются благодаря наличию государственных границ. Играя на этих различиях, свободный и подвижный капитал легко превращает их в дополнительный источник своего роста. В странах Запада наблюдается необычайная политизация этого сюжета. В одной из интереснейших и культовых марксистских книжек последнего десятилетия «Империя», написанной дуэтом Антонио Негри и Майкла Хардта,[6] утверждается, что принципиальным политическим вопросом текущего столетия станет вопрос об «универсальном гражданстве», то есть о мобильности наемного труда.
Финансовый рынок – сублимированная сущность капитала. Его экспансия проявляется в игре на различиях, из которых извлекается прибыль. И именно финансовый капитал владеет кодом, способным найти монетарное выражение всему, что поддается количественным определениям. На финансовых рынках представлены практически все отрасли и сегменты мировой экономической жизни. Можно торговать даже погодой и еще не открытыми месторождениями, колебаниями цен (волатильностью), заключать политические пари и пр. Если имеется доступ к разнообразным финансовым инструментам, то имеет гораздо больший переориентироваться с непосредственного производства на финансовую инженерию и заняться перемещением капитала из одного сектора экономики – в другой, более многообещающий. Как риски, так и издержки будут значительно ниже. Но даже те компании, которые заняты реальным производством, имеют возможность страховать свои риски с помощью таких производных финансовых инструментов как опционы и фьючерсы. Широкая популярность этих финансовых инструментов привела к чудовищным диспропорциям между базисными активами и производными: если капитализация всех компаний, представленных на мировых биржах составляет около 30 триллионов, то капитализация рынка производных от них финансовых инструментов оценивается примерно в 100 триллионов. Причем, 80% всех деривативов находится на счетах восьми крупных финансовых корпораций. Дело даже не в том, что рынок производных инструментов извлекает из реальной экономики суммы поистине гротескные. Важно то, что существующий финансовый режим, возникший после отказа США от золотого обеспечения доллара в 1971 году, привел к невиданной концентрации капитала, которая имеет все признаки спекулятивного пузыря, раздуваемого механическими приводами сложных финансовых инструментов. Если раньше механизм перераспределения регулировался государствами через режим зарплаты, то теперь мы наблюдаем, что он регулируется посредством международного монетарного режима.
Доллар ныне играет роль резервной мировой валюты. С его помощью совершается более двух третей всех коммерческих сделок. Это означает, что любая сделка, произведенная в долларах, осуществляется при посредничестве американской стороны. Не случайно, что, по мнению всех администраций, начиная с рейгановской, политика сильного доллара отвечает стратегическим интересам США. Но эти же интересы ставят американскую политическую и экономическую элиту в крайне затруднительное положение. Никто, даже Федеральная резервная система (ФРС), исполняющая в США функции центрального банка, не в силах с точностью определить, какая долларовая масса циркулирует на международных рынках за пределами Америки. Так, в одном из своих выступлений перед конгрессом председатель ФРС Ален Гринспен признал практическую неосуществимость производства сложных подсчетов монетарных агрегатов. По его мнению, основная трудность состоит в «определении денег», в том, какую часть ликвидности следует действительно считать деньгами. Способы измерения денег, которые практикует ФРС, по его же словам, являются «неадекватными».[7] Доверие к доллару как к резервной валюте основывается на политическом влиянии, военной мощи и страхе субъектов экономической деятельности перед радикальными изменениями монетарного порядка. Подобное «доверие» легко конвертируется в экономическую мощь, поскольку США – как единственная страна, контролирующая эмиссию резервной валюты – получают исключительные преимущества для финансирования собственного экономического и технологического роста. Всего этого уже достаточно, чтобы понять политическую природу существующего монетарного режима и степень рыночной «свободы» глобальной экономики.[8]
То, что называют европейской цивилизацией, было образовано в бесконечной череде конфликтов: в религиозных войнах, войнах мировых и колониальных. Нет никаких оснований полагать, что глобализация должна проходить мирно и бесконфликтно. Важно определить на каком поле будут происходить решающие схватки. Именно на финансовых рынках, где властные амбиции выражаются абстрактной силой звонких денег, а не в горах Афганистана и не по линии фронта, названной Бушем «осью зла», в обозримом будущем будут происходить решающие «геополитические» ристалища. Условия для радикальной перестройки существующего монетарного порядка могут сложиться после введения новой европейской валюты. Власть получит тот, кто будет производить универсальный инструментарий для выражения различий, то есть монетарные универсалии, язык меновой стоимости.
Даже если Россия замкнется в островном пространстве, мне все же трудно представить, что она окажется способной остаться в стороне от потенциальных финансовых и коммерческих конфликтов. Всякая попытка самоизоляции приведет к более жестким отношениям со странами, взявшими на себя ответственность за процессы глобальной интеграции. Эти отношения будут просто-напросто перенесены из измерения экономической конкуренции, в сферу политического принуждения и насилия. Ведь стремление к изоляции будет интерпретировано как ограничение свободы глобальной экспансии, ограничение доступа к ресурсам, в которых заинтересованы мощные экономические и политические силы.
5. Асимметрия возмездия
Повсеместная деградация концепции национального суверенитета – одно из следствий складывающейся новой глобальной круговой поруки. Этим процессом охвачены не только «государства-изгои», но и «государства-победители». Границы между внутренним и внешним, «фронтом и тылом» глобализации становятся едва различимыми. Доктрина национального суверенитета, как идеологический инструмент управления и администрирования социальными кризисами, теряет свою прежнюю эффективность, поскольку процессы распределения богатств и ресурсов регулируются скорее на международном уровне, чем в пределах отдельного национального государства. Следовательно, социальные конфликты имеют уже не только национальное происхождение, но производятся, в первую очередь, режимами международных обменов.
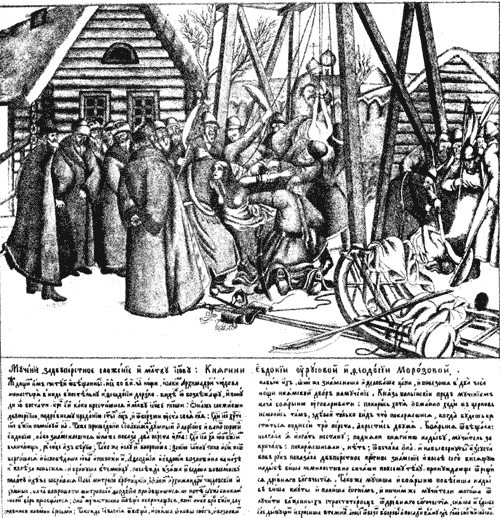
Сам факт появления такой реальности как международный терроризм говорит о том, что глобализация заметно продвинулась. Монополия на контроль над глобализацией, которая с неизбежностью производит проигравших и отщепенцев, превратилась в препятствие для дальнейшей экспансии капитала и усилила позиции тех, кто не видит иного пути, кроме террористической перестройки ситуации. Так известный французский социолог Жан Бодрийар описывает терроризм как «вирусную инфекцию»,[9] готовую вспыхнуть в любой точке планеты. По его мнению, фигура террориста находится в сердцевине самой системы мирового господства. Террорист – экстерриториален, а его конфессия или национальность не являются его сущностными определениями. Столь же невозможно, утверждает Бодрийар, ассоциировать систему господства с конкретным государством, например, с Америкой,[10] которая, хотя и является эпицентром глобализации, но никак не ее воплощением. Эту мысль Бодрийара можно закруглить заключением: невозможность территориальной фиксации террора и противостоящей системы господства ставит под сомнение саму возможность «симметричного» ответа на терроризм, делает сомнительной и неадекватной всякую антитеррористическую войсковую акцию – в Афганистане, Ираке или Иране. В рамках политики культурных и этнических различий отдельные государства и народы могут быть объявлены врагами человечества. Однако сложившаяся система мирового господства не способна противостоять «вирусной структуре» террора, стремящегося «не к преобразованию мира, а к его радикализации посредством собственной жертвы».
Трудно согласиться с распространенным мнением, что 11 сентября 2001 года продемонстрировало бессилие существующего режима глобального апартеида. Конечно, рядовой потребитель CNN испытал не просто психологический шок от террора в прямом эфире: он перестал воспринимать Америку как геополитический стержень рациональности и справедливости. Суицидальная окраска террора перевела борьбу с системой в символическое измерение – конкретные исполнители оказались недоступны для возмездия. Поэтому следовало найти им символическую замену. Масштаб антитеррористической акции должен был многократно превзойти ущерб, нанесенный основным символам власти. Связность восприятия мира и внутреннее равновесие телезрителя было вскоре нормализовано массивной бомбежкой талибов и войной за свободу афганской женщины. Последовал поток заявлений целого ряда мировых лидеров о присоединении к антитеррористической коалиции, и ось рациональности была очень скоро восстановлена. Мы иногда недооцениваем мощь и жизнеспособность существующего глобального режима, функционирующего как система перекрестных альянсов. Как на свидетельство слабости смотрим мы на асимметричность и неадекватность ответа международному терроризму, но разве существующий режим нуждается в этом? Ведь, как говорит сам Бодрийар, борьба с террором разворачивается не в измерении реальном, а символическом.
6. Рост или устойчивость
Один из самых забавных аргументов критиков глобализации связан с распространенной убежденностью, что глобализация тождественна процессу усиливающегося единообразия и стандартизации, с подавлением альтернативных культурных моделей. Действительно, мы видим повсеместное распространение стандартов финансового, экономического и потребительского поведения, унификацию образования и правовых норм, практически идентичные вокзалы и аэропорты, одни и те же универмаги и правила вежливости. Даже риторика изоляционизма и национализма кажется совершенно идентичной вне зависимости от величины территории патриотического надзора. Однако тенденция к унификации различных инфраструктур жизнедеятельности имеет целью не столько культурную экспансию, сколько создание условий для ускорения обмена продуктами человеческой деятельности, более широкой доступности ресурсов. Глобализация – это не только разрушение некоторых традиционных структур, но обещание новых, более сложных и разнообразных. Процессы дальнейшей унификации глобального пространства будут служить скорее верным признаком того, что проект глобализации демократизируется. Ведь большие сообщества нуждаются в прозаической ясности и понятности всеобщих стандартов.
Источником культурных и цивилизационных конфликтов является не унификация, а скорее неравномерность: в распределении богатств, в использовании ресурсов, в развитии между старыми и новыми секторами хозяйства, между регионами и социальными группами и пр. Основным возмутителем возникающих диспропорций является динамичная природа капитала. Так, например, интенсивные капитальные вложения в индийскую экономику в ходе последнего десятилетия, разрушили прежние хозяйственные связи, в особенности, с более бедными соседями и усилили политическую нестабильность в регионе. Нынешняя синхронизированная мировая рецессия была связана с избытком инвестиций в сектор высоких технологий, в то время как традиционные отрасли экономики страдали от недофинансирования. В этой ситуации, государства развитых стран пытались амортизировать резкое изменение в предпочтениях капитала и усилили дотации производственного и сельскохозяйственного секторов, чтобы избежать внутренней социальной напряженности. Тем самым, они фактически экспортировали социальные противоречия за пределы своих границ, способствуя деградации социальной и экономической жизни стран третьего мира.
Внедрение новых технологий и развитие новых отраслей не только изменяют социальный пейзаж, но всегда способствуют росту социальных и экономических диспропорций и конфликтов. Обществу чрезвычайно сложно прицениться к новым продуктам, адекватно определить оплату труда в «новой экономике». Рынок, в этом смысле не панацея, он – неэффективен, т. е. не способен равномерно и адекватно распределять финансовые ресурсы. Установление стоимостных эквивалентов столь же произвольно, сколь произвольны интерпретации текста. Рынок более или менее справляется с определением цен на традиционные товары и услуги, но для оценки новых он нуждается во времени, дабы установился широкий консенсус.
Ради сохранения социального равновесия серии постоянных инноваций требуют параллельного вмешательства государственных или квазигосударственных институтов в деятельность капитала, то есть установления процедурных правил, ограничений, стандартов и норм. Творческая энергия капитала, чтобы она не превратилась в деструктивную силу, нуждается во внешней, институциональной коррекции. С другой стороны, систематическое подавление капитала со стороны государства, будет всегда восприниматься как подавление гражданских свобод и права на качественное потребление. Лишение капитала мобильности будет означать не только его смерть, но в каком-то смысле, разрушение нашей моральной идентичности, которая формировалась в течение двухсот лет промышленной революции и нынешней волной глобализации.
Развитие кредитных отношений привело к тому, что основным источником финансирования стали сначала банки, а затем и население. Стало возможно продавать и перепродавать долговые обязательства любому лицу, находящемуся в любой самой отдалённой точке мира, лишь бы это лицо находилось в пределах «универсальных» правовых гарантий, где действуют универсальные же финансовые эквиваленты и символы. Постепенно кредитные отношения распространились на потребителя, который стал предпочитать распоряжаться вещью еще до того, как она перешла в его собственность (лизинг). Поскольку кредит выражается с помощью универсальных монетарных терминов, то есть денег, постольку он приобретает способность к поистине глобальной мобильности. Кредит постепенно сделал человека действующим лицом глобальных отношений, что позволило Бодрийару утверждать, что «такое базовое идеологическое понятие как кредит представляет собой больше, чем экономический институт: кредит – фундаментальное измерение нашего общества, его новая этика».[11]
Устойчивость и стабильность открытых социальных систем имеют такое же существенное значение, как их способность к росту и усвоению нового. Организация больших и сложных сообществ не может строиться на непосредственности отношений между людьми. Одна из ключевых проблем организации глобального сообщества сводится, на мой взгляд, к следующему вопросу: как трансформировать любовь к ближнему в доверие к дальнему. Для этого нужна гомогенная среда, универсальный код, конвертируемость продуктов разнокачественной деятельности, понятные и прозрачные принципы распределения ресурсов, основанные на консенсусе. Такую сложную систему опосредований невозможно реализовать при существующем сегодня режиме глобального апартеида. Сорок процентов роста глобальной экономики за последнее десятилетие происходило за счет роста американской экономики. Именно американо-центричный проект глобализации привел к опасным диспропорциям и неравномерности в развитии мирового хозяйства и распределении ресурсов. Американо-центризм превратился в препятствие глобализации и угрожает нынче существованию самой системы мирового хозяйства. Поэтому задача понижения системных рисков и диспропорций во многом совпадает с интересами ряда развивающихся государств и требованиями движений. В этом смысле, эгалитарная идеологема воплощает в себе не только некий социальный идеал, но необходимое условие существования и развития глобального сообщества как открытой системы. Идеологема свободы нуждается в постоянной критической коррекции со стороны идеологемы эгалитаризма. Россия не относится к центру экономического и политического процветания, поэтому ей ближе не столько забота о свободе, сколько о равенстве и справедливости. Изоляция в островную культуру будет означать фактический отказ от отстаивания своих собственных интересов. И это было бы особенно прискорбно, поскольку игнорировались бы естественные союзники в лице тех, кто заинтересован в понижении системных рисков, других государств, обойденных при разделе общего пирога, а также набирающих силу эгалитарных социальных движений. Выработка и отстаивание адекватной сегодняшнему дню эгалитарной идеологемы, выраженной на языке права, на языке, который используется самой системой, изменило бы и внутриполитическую атмосферу. Ведь подобную эгалитарно-правовую идеологему государство должно было бы отстаивать и у себя дома, что способствовало бы устранению системных диспропорций, разрешению социальных конфликтов и созданию условий для более эффективного производства социальной жизни. Если Россия избежит судьбы острова, она оградит себя от политического насилия и может даже поспособствовать разложению режима глобального апартеида. В этом, ежели кому-то хочется, можно даже увидеть историческую миссию народа богоносца.
<Сетевой вариант статьи расширен в сравнении с журнальным вариантом.>
[1] Мильдон В. В направлении к свободе. Некоторые итоги XX столетия // Вестник Европы. 2. 2001.
[2] До Вадима Цымбурского над островной утопией работал, например, Диодор Сицилийский, благодаря которому до нас дошли рассказы Эвгемера об острове Панхайя и Ямбула о Солнечном острове.
[3] Цымбурский В. «Это твой последний геополитический выбор, Россия?» [http://www.politstudies.ru/universum/esse/7zmb.htm#14]
[4] См. [www.grameendank.com].
[5] Hobsbaum E. The New Century. London, 1999, p. 77.
[6] Hardt M. Negri A. Empire. Cambridge, 2000.
[7] Один из республиканских конгрессменов желая уточнить последний тезис Гринспена, спросил его: «То есть трудно управлять тем, что вы не можете определить? На что Гринспен ответил: «Невозможно управлять тем, что вы не можете определить».
[8] Вот какое описание существующего монетарного режима дает лауреат Нобелевской премии по экономике 1999 года Р. Манделл: «С 1666 по 1934 год существовало семь великих держав, Британия была первой среди равных. Представьте себе, что золото это солнце, а сверхдержавы – планеты. Что будет, если одна из планет нашей солнечной системы, скажем, Юпитер, начнет все больше и больше разрастаться и станет больше, чем Солнце? Что, с точки зрения динамики Ньютона, произойдет в таком случае? В конечном итоге, если Юпитер станет действительно больше, то он начнет занимать позицию Солнца, а другие планеты станут двигаться скорее вокруг Юпитера, чем Солнца. В конечном итоге, само Солнце начнет вращаться вокруг Юпитера. Именно это и случилось с международной монетарной системой в ХХ веке. Одна страна опередила другие и стала причиной нового порядка». Mundell R. International Monetary System. [http://www.columbia.edu/~ram15/index.html]
[9] Baudrillard J. L'esprit du terrorisme. Le Monde, le 3 novembre 2001.
[10] К недовольным результатами глобализации относятся не только часть мусульманского населения планеты и страны-изгои. «Странное» и двусмысленное сочувствие террористическому подвижничеству воинам ислама шепотком высказывается многими европейцами. С одной стороны, они прекрасно понимают, что триумф нового варварства посредством террора связан с прямой угрозой населению самой Европы. С другой стороны, атака 11 сентября вызвала тайную радость и восторг «среднего европейца», которую Бодрийар озвучил следующим образом: «Они сделали то, чего мы так жаждали – ударили по сверхдержаве». Не правда ли, очень напоминает радость членов банды, когда их главарю кто-то со стороны надавал по шапке.
[11] Baudrillard J. Le Système des objets. La consommation des signes. P., 1968, p.187-188.
