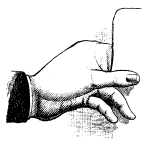Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Бескрайняя равнина конца времен
Геополитику чаще всего определяют как «учение о зависимости политических событий от территории» — науку, исследующую влияние фундаментальных свойств пространства на политическую реальность: горы и реки создают «естественные границы», за удобные гавани разгорается борьба заинтересованных государств, большие протяженные равнины предполагают совсем иную форму политического порядка, нежели маленькие и изолированные горные долины, и т. д. Своеобразная «геополитическая революция» в мировой политической мысли произошла тогда, когда основатель геополитики Фридрих Ратцель заявил, что «пространство является не столько вместилищем государства и его сил, сколько самостоятельной силой». Пространство стали рассматривать как структуру, определенным образом предопределяющую и мотивирующую политическое действие.
Однако вот что странно — история геополитики как интеллектуальной практики показала, что «конструкты, заявленные как геополитические теории, на деле представляют собой геополитические доктрины, предусматривающие определенное геополитическое поведение, а не отстраненно рефлектирующие его»,— отмечает один из ведущих представителей армянской геополитической школы Л. Г. Казарян. И в самом деле — все знаменитейшие геополитические теории ХХ века, созданные Маккиндером и Хаусхофером, Спайкменом и евразийцами, представляют собой не столько объяснительные теоретические схемы, сколько политические программы, в которых долженствование обосновано «требованиями» пространства. Геополитическое «Пространство» оказывается уже не объектом изучения, а субъектом действия, причем субъектом властным, не терпящим неподчинения. Выясняется, что не столько «Пространство» диктует ту или иную модель геополитического поведения, сколько сформировавшиеся в человеческом уме и безумии образы этого пространства — не всегда «субъективные», но всегда культурно детерминированные и вариативные. Никаких «объективных» цепей гор, которые разделяют геополитические пространства, не существует — для одних это крепость-защита, для других — препятствие, для третьих вообще никакое не разделяющее пространство, а пространство перевала, определенным образом оформленное пространство-«смычка».
* * *
Для того чтобы объяснить такие чудеса неаккуратного обращения Realpolitik со свойствами пространства, «пространственно ориентированная» геополитика может, подобно последователям Птолемея, накручивать эпициклы за эпициклами. Но мнится все же, что в XXI веке геополитике не избежать «коперникианской» или «кантианской» революции, в результате которой геополитическое действие и его структуры получат приоритет над пространством и его мнимообъективными качествами. Именно действие того или иного «геополитического субъекта» формирует то или иное геополитическое пространство, задает его структуру и его идеологическое отражение в человеческой мысли.
Поэтому не следует зацикливаться и на утонченном гуманитарно-семиотическом исследовании культурных «образов пространства» — они только мотивируют действие (причем часто — задним числом), а не предопределяют его. Страны, народы, империи, цивилизации и прочие сущности, с большим или меньшим правом зачисляемые в «геополитические субъекты», чаще всего не делают, подумавши, а думают и придумывают, сделавши. Оформление геополитической мысли и создание геополитических доктрин — настоящее чудо прогресса. Причем статус этих геополитических доктрин проясняется как нельзя лучше — геополитические доктрины являются геополитическими программами, а геополитики-теоретики чаще всего претендуют на статус советчиков и советников власти как организующей геополитическое действие силы. Место геополитика не в Башне, а при Дворе.
Итак, что же мы получим, если присмотримся к геополитике повнимательней, не ограничиваясь тем, что она заявляет о самой себе? «В начале было дело»— политическое действие того или иного субъекта (социального, а не индивидуального) формирует определенную реальность, геополитическое пространство, имеющее свою особую конфигурацию и особые характеристики по сравнению с пространством географическим, экономическим или каким-либо еще. Это — пространство, подлежащее политическому освоению, пространство экспансии. Освоенное пространство становится «жизненным миром» (или, если угодно, «жизненным пространством», знаменитым Lebensraum) геополитического субъекта, тем миром, который он создал вокруг себя и для себя сам.
Реальное геополитическое действие является, если будет позволительно так выразиться, сложносоставным — в нем никогда нельзя вычленить «одну, но пламенную страсть», руководящую всем. Кто-то ищет сокровищ, кто-то власти, кто-то защиты и убежища, кто-то наносит упреждающий удар ради собственного спокойствия, кто-то пассивно влачится за ходом судьбы. Разложить то или иное геополитическое действие (например, «Пакт Молотова — Риббентропа» и его последствия для Восточной Европы) на «факторы» — это значит отказаться от объяснения, поскольку простой перечень факторов займет не одну сотню страниц. Поэтому в связке с реальным геополитическим действием всегда выступают «идеальные» мотивационные структуры, объясняющие, «почему мы поступили именно так», и тем самым диктующие спектр возможных действий в будущем.
Как и всякое социальное действие, включающее наряду с «акцией» еще и «мотивацию», геополитическое действие предполагает, что количество «возможных вариантов» в прошлом было больше, чем в будущем, но зато оставшиеся будущие варианты сложнее, перспективнее и интереснее. Геополитические идеи имеют тенденцию складываться в целостные геополитические идеологии, которые предусматривают набор достаточно сложных действий, имеющих общее направление и какую-либо цель. Вследствие этого количество геополитических «панидей» оказывается крайне ограниченным, и они составляют как бы особое, вознесенное в эмпирии царство, имеющее обычно довольно ограниченное влияние на текущую политику, зато питающее досужих журналистов легкодоступными объяснениями.
Пространство более приближенных к реальности геополитических идей — это не столько пространство «высокой» идеологии, сколько пространство геополитического мифа — иррационального, внутренне противоречивого, исключающего полноту описания в одном тексте. Такой миф как бы примиряет геополитический субъект с собственным действием, выстраивает вокруг него полуиллюзорную реальность, в которой все происходящее не просто «понятно» или «правильно», но еще и психологически комфортно. В геополитических мифах устойчивость государства приписывается, скажем, тому, что оно «вечная Империя», а долговременные неудачи объясняются «постоянными происками врага», крушение геополитических иллюзий смягчается надеждой на возрождение, а экспансия обосновывается «наследием предков», «религиозным долгом», «естественными границами», «жизненными интересами» или «общечеловеческими ценностями».
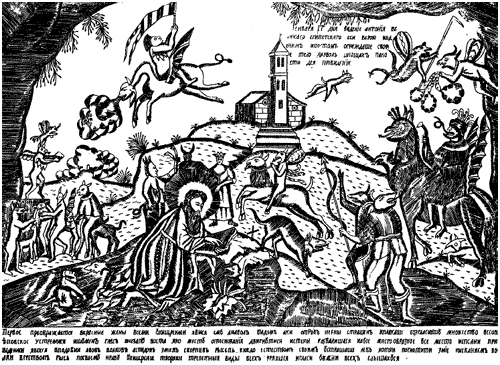
При этом, впрочем, интересен не столько каталог «геополитических мифологических сюжетов», который не так уж пространен и довольно однообразен, сколько то, как эти сюжеты сцеплены в неповторимые мифологические конструкции конкретной страны и народа. Именно геополитическое действие и делает возможным такое сцепление — те или иные деятельностные особенности или, иначе говоря, «способ действия» геополитического субъекта получают в геополитическом мифе идеологическое и образное обоснование. Поэтому «геополитическое поведение» удобно изучать, анализируя геополитическую мифологию, причем обращая внимание не столько на то, что она говорит, сколько на то, каким образом она это делает. Исследование геополитической мифологии в контексте картины мира того или иного народа и в самом деле может дать ключ к геополитическому поведению, в интересующем нас случае — геополитическому поведению России.
* * *
Разобраться в русской геополитической мифологии оказывается очень непросто. Применительно к России мы можем говорить о «навязанной» или, если выражаться осторожнее, «транслированной» геополитической субъектности. Это значит, что на Россию, хотела она того или нет, был перенесен очень древний комплекс геополитических представлений. Ее геополитическое поведение стало описываться— не только в рамках русской идеологии, но и внешними наблюдателями — как реализация таких представлений, вне зависимости от реальных мотивов, которыми русские руководствовались в своей деятельности. Речь идет, разумеется, о римско-ромейском имперском комплексе, который традиционно именуется идеологией «Третьего Рима» и считается ведущей «панидеей» русской геополитики — именно она первой приходит на ум, если что-то надо объяснить «в контексте русской идеи». Для одних эта идея — повод лишний раз испытать «национальную гордость великороссов», для других — предмет раздражения и упреков «России-суке», но, во всяком случае, она используется в качестве универсальной культурной отмычки к идеологическому аспекту российской политики. Эта идея «тематизирует» пространство русской высокой культуры, оказывается центральной едва ли не для всех русских культурных групп и течений. Порой «тематизация» выражается в отрицании ключевого тезиса, однако сам статус «мессианской идеи» как идеи основополагающей, центральной практически никем не оспаривается. Попытка сконструировать идею «России-Евразии», предпринятая в ХХ веке, была формой «кризисного менеджмента», способом ответить на вопрос: как быть с тем, что Третий Рим как «православное Царство» больше ни в каком виде не существует, а территория России как единая и целостная геополитическая конструкция осталась. Новейшая геополитическая концепция «острова России», предложенная Вадимом Цымбурским, — тот же послекризисный плод: «Евразия-СССР» рухнула, перекочевав в теневое царство «панидей», а Россия жива и действует. Произойди в середине 1990-х распад РФ, и из недр московской мэрии поступил бы заказ на очередную антикризисную концепцию, в которой история России интерпретировалась бы как череда трансформаций древней Московии. Каждое новое масштабное геополитическое истолкование России задается крахом предыдущей объяснительной схемы — поэтому интересней обращаться к самой древней из концепций, от неполноты которой идут все остальные.
Впрочем, не следует закрывать глаза и на то, что сам «Третий Рим» был тоже антикризисным предприятием. Русским надо было ответить на вопрос: почему — притом что Царьград, а заодно и все прочие христианские царства, пали — не происходит немедленного и полного конца света? Ведь «невозможно христианам не иметь царя» — еще совсем недавно поучали сами же византийцы. Россия, находившаяся в культурном смысле на периферии византийской ойкумены, в экономическом — на самом перекрестье трансъевразийских торговых коммуникаций, а в политическом занятая реализацией национально-вотчинного проекта (одного из самых старых в Европе) по воссоединению в единых руках «наследства Ярослава», вдруг получила — не то чтобы «насильно», но во многом неожиданно и невольно— развитую геополитическую мифологию, которую необходимо было состыковать с установками и практикой русского геополитического действия.
В итоге «Третий Рим» оказался хорошо встроенным в русский цивилизационный код, что свидетельствует об успешности проведенной стыковки. Но далось это ценой значительных трансформаций самой римско-византийской мифологемы, с одной стороны, и своеобразной «мистификации» русского геополитического действия — с другой. Делая одно, русские утверждали и утверждают, что делают совсем другое. Это не означает, что «доримскую» русскую геополитику можно «родить обратно» без калечащих действий, но вот последовательно отличать саму геополитическую мифологию как определенную символическую систему от оформленных и деятельностных установок — необходимо. И сегодня, говоря о русской геополитике, надо видеть эти установки — как в их первоначальном, так и в идеологически трансформированном виде. Об этих деятельностных установках и пойдет далее речь.
* * *
Для геополитического действия образ пространства, поля действия, является центральным — именно через него происходит координация всех остальных деятельностных установок. Важно не то, чем конкретно заполнено пространство, а то, какую инфраструктуру оно имеет в представлении действующего. Русское пространство имеет целый ряд очень специфических характеристик, отличающих его от пространства Европы, Китая или, скажем, той же Византии.
Прежде всего, оно и в самом деле является «полем»: это практически лишенное качества, однородное пространство, с которым и «работает» русская колонизация — государственная и народная. Геополитическое пространство России «простирается» во все стороны, как бы расползается по белу свету, и только там, где есть это своеобразное «русское пространство», реально возможно геополитическое действие русских. Наличие такого пространства является первоначальным условием геополитического действия, без которого механизм русской геополитической экспансии не срабатывает. Там, где на пути русской колонизации не встречалось ничего качественно противостоящего, а на туземцев можно было смотреть как на интересный элемент пейзажа (например в Сибири), русское «простирание» шло легко и даже почти не рефлексировалось.
Там, где русские натыкались на сложно структурированное, высокоорганизованное пространство, «туземцы» которого никак на пейзаж не походили, немедленно возникало «претыкание», сопровождавшееся, кстати, немалым раздражением. В русской душе постоянно болит «заноза» Запада — в том числе и потому, что пространство Европы очень сложно поддавалось и поддается геополитическому освоению, там слишком много «вещей», которые боязно и «жалко» трогать. Слова Достоевского о Европе как о «стране святых чудес» отражают эту подсознательную расстановку приоритетов: Европа — это не место, где люди, а место, где вещи, — что-то вроде большого антикварного магазина или музея, где посетителям положено ходить в тапочках и разговаривать тихим шепотом. Историко-геополитическая утопия Виктора Суворова «Ледокол» подсказана как раз таким отношением к европейскому пространству — для того чтобы Россия смогла овладеть этим пространством, необходим кто-то, кто лишит это пространство структурности, дезорганизует его, поломает привычные связи, «проредит» чрезмерное количество вещей, т. е. выступит в роли «ледокола».
В Калининградской области, очень плотно освоенной немцами Восточной Пруссии, можно было наблюдать следующее странное явление: после выселения немцев русские поселенцы никогда не селились в немецких домах и немецких селах — они их разбирали на стройматериалы, сооружая свои поселения поблизости. Даже с электростанцией, вопреки жесткой послевоенной экономии, поступили так: немецкую демонтировали и увезли в глубь России, а на ее месте построили русскую.
Существуют и «миражные» регионы, в которых геополитическое действие русских попадает в своеобразную ловушку — первоначальная структура там кажется несложной, «сопротивление материала» на первый взгляд незначительным, потому что отличия поначалу как таковые не воспринимаются. Если у немца сразу видна «культура», отличная от русской, то у обитателя Туркестана или Закавказья, хоть он и не «элемент пейзажа», в его культурном отличии от русского последнему видится в основном невежество и даже «дурь», которая подлежит устранению. Однако носитель иной цивилизации, обладающий своей — пусть и не воспринимаемой русскими — культурой, охотно садится за парту, учится языку и наукам, но русифицируется с трудом. Возникает ситуация предельно невыигрышная для русского взгляда на пространство — ситуация «культурного соседства», когда одно и то же пространство освоено двумя разными способами, имеет два разных облика, и носителям разных деятельностных моделей приходится взаимодействовать, а не конфликтовать. Русские не ведут себя в такой ситуации агрессивно и, в общем, неплохо уживаются с соседями, но в своем действии чувствуют себя довольно стесненно. «Миражные» регионы для России проблематичны — они как бы и свои, и хорошо освоены, но вот «что с ними делать», оказывается не совсем понятным.
Для того чтобы обеспечить «правильное» протекание геополитической экспансии, пространство приходится искусственно «простирать», т. е. в определенной степени деструктурировать, нивелировать его — при помощи искусственных мер, предпринимаемых государством. Государство очерчивает границу того, что может считаться «русским полем», причем очерчивает с размахом. Государственная власть в русской геополитике выступает не в качестве «субъекта» действия. Ему самому, как обычно выясняется, те или иные территории, на которые ступает нога русского солдата, не очень-то и нужны — политическая история России в этом смысле является не столько историей экспансии, сколько непрерывной чередой отказов от завоеваний и завоеванных территорий. Так называемая «русская Америка», Аляска, Константинополь, Эрзерум, Табриз, Манчжурия — ни одна мировая империя не отказывалась добровольно от такого количества оказавшихся в ее распоряжении территорий. Либо подчиненная государством территория становится частью «русского пространства», предполагает интенсивное освоение или хотя бы «потенциал» такого освоения, либо эта территория попросту не нужна. Ее не имеет смысла держать просто так, как добыча она неинтересна.
Роль власти в русской геополитике — это роль силы, которая создает предпосылки к действию, наилучшие условия его протекания. Государство берет на себя функцию организации и поддержания русского «фронтира» — границы геополитического пространства, на котором наиболее интенсивно осуществляется экспансия. Русский фронтир значительно отличается от, скажем, фронтира американского. Последний напоминает густое закрашивание фломастером того или иного участка, американский фронтир — поглощающий. Русский фронтир, огораживающий поле русского колонизационного действия, — нечто вроде прочерченной карандашиком пограничной полосы, а все, что внутри нее, по возможности стирается ластиком (не всегда с помощью бульдозера — чаще путем сознательного и бессознательного игнорирования реальных различий), после чего и начинается работа собственно «геополитического субъекта», который с какой-то долей условности можно назвать «народом».
Даже при наступательном расширении русского фронтира он все равно мыслится как оборонительный. Каким-то образом выходит, что тот или иной участок территории достается русским «сам собой», как сыр вороне. Даже когда хорошо известны история его завоевания и заплаченная дорогая цена, все равно никакой осознанной оккупации не получается, огороженное русским забором уже воспринимается своим, а сопротивление — внутренним недоразумением. Нет, наверное, ничего более дикого и непонятного для русского, чем услышать в свой адрес: «оккупант», и те немногие русские чиновники, которые пытались наладить оккупационный режим на неспокойных завоеванных территориях, заслуживали от своих же нелестные эпитеты «вешателей», «палачей» и т. д.
Только что завоеванные туземцы уже мыслятся как подзащитные, перестают быть врагами в сам миг победы. Достаточно вспомнить известную историю про Скобелева в Туркестане, когда, действуя по принципу «сперва надо поразить воображение азиатцев жестокостью, а потом покорить их сердца милосердием», он сперва приказал взорвать динамитом крепость Геок-Тепе, а потом русские солдаты отлавливали визжащих туркменок… чтобы в качестве акта милосердия «оделить их рухлядью». Рухлядь была взята из туркменских же кибиток, но завоевателей это мало смущало — вокруг уже была русская земля, и об «азиатцах», уже час как бывших подданными русского царя, следовало проявить посильную заботу — ободрять, награждать и защищать их. Но русским же принадлежит и одна из самых массовых этнических чисток нового времени — депортация в Турцию сотен тысяч черкесов в 1864 году — правда, до этого надо было довести полувековой кавказской войной, вынудившей русских решиться попросту «стереть» старый Кавказ и нарисовать поверх новый.
Русский «фронтир» — это всегда оборонительный рубеж. Он защищает пространство, в котором совершается собственно геополитическое действие, представляющее собой наслаивание одной за другой территориальных «чешуек», малых и средних пространств, которые освоены «по-русски», в которых живут русские и которые, соответственно, составляют Русскую землю. Эта Русская земля как жизненный мир русских является одной из старейших наших геополитических мифологем. Вспомним: «Се повести временных лет, откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве начал первее княжити и откуда Русская земля стала есть». Увлеченные анализом «Третьего Рима» авторы, анализируя русскую геополитику, попросту отбрасывают тот факт, что сформировавшаяся еще в X–XI веках «Русская земля» благополучно пережила ставший «панидеей» Третий Рим и по-прежнему является устойчивым фундаментом любых геополитических построений касательно русского пространства. Русь является данностью, и по этой, видимо, причине видеть ее исследователи отказываются.
Между тем, поразителен сам феномен существования на огромном пространстве очень большого для средневековья числа людей, рано потерявших довольно эфемерную политическую организацию, но сохраняющих ощущение своего единства. В домосковский и особенно домонгольский период Русь удивительно напоминает древнюю Элладу — такая же раздробленность на «полисы», такие же постоянные внутренние распри и то же, не разрушаемое никакой усобицей, сознание единства и четкое противопоставление себя внешнему миру. Очевидно, что речь идет о существовании определенного «культурного космоса», определенной модели жизнеустройства, сохранение которой и обеспечивало вхождение той или иной местности и группы лиц в Русскую землю. Каждая из малых территориальных единиц эпохи раздробленности была до узнаваемого подобна другой такой же русской единице — поэтому когда началось «собирание» Руси московскими князьями, то собирать можно было медленно, методично, кусочек за кусочком, город за городом, ощущая при этом границу собирания. Московская Русь медленно, но неуклонно наползала на Польшу-Литву, обосновывая свои территориальные претензии исконной «русскостью» спорных земель.
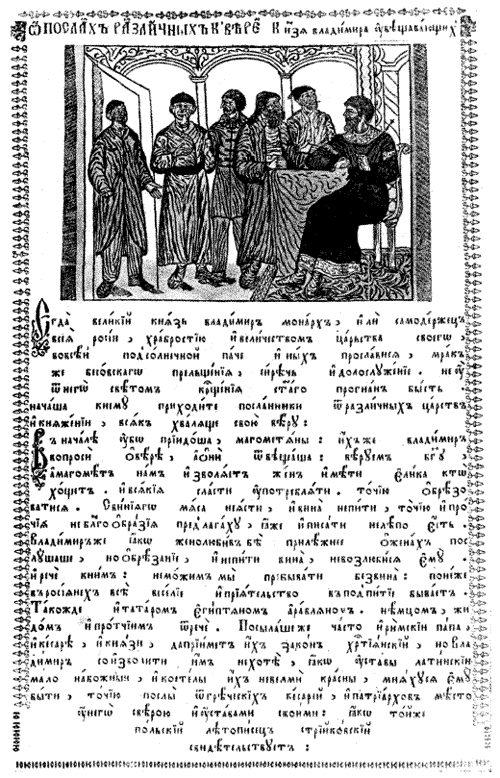
Русская геополитика делается двумя руками, каждая из которых не знает, что творит другая. Мало того — они конфликтуют. Не случайно о русской колонизации говорится как о «бегстве народа от государства». Но народ бежит, а не «эмигрирует», укрывается от боярина и псаря, но не от верховного суверенитета царской власти, да и не может убежать, ибо сам мыслит себя носителем этого суверенитета не меньше, чем царь.
Русская народная колонизация расползается по просторам Евразии, просачивается в каждую щель, в каждую пустоту и обустраивает эту пустоту как Русскую землю, русское государство. Княжество, царство, империя — назовем это как угодно, в зависимости от эпохи, — оказывается обладателем прав на территорию на том основании, что является «Русской землей». Это один ход. Но вот противоположный — русское государство захватывает ту или иную нерусскую территорию, устанавливает границу, и к этой границе, в новые пределы, устремляется колонизация — ведь там, где власть русского царя, уже и есть Русская земля, уже можно жить русскому человеку. Два принципа непрерывно подменяют один другой — там, где на русской земле нерусская власть, действует принцип национальности — власть должна быть приведена в соответствие с народностью; там, где русская власть над нерусской землей, действует принцип государственности — народность и культура да приведутся в соответствие с властью.
* * *
Вышеописанные особенности можно, с известной долей осторожности, назвать «константами» русского геополитического поведения. Поле действия — бескрайнее неструктурированное пространство. Условие совершения действия — государственная экспансия, огораживающая пространство народной колонизации и нивелирующая ранее существовавшую в этом пространстве структуру. Образ действия — народная колонизация, наращивающая чешуйками территорию «Русской земли», русского домашнего космоса. Однако ради чего все это? Рано или поздно с неизбежностью встает вопрос о смысле совершаемого действия, а вместе с тем и о его субъекте как о носителе этого смысла.
Формируемый геополитическим субъектом «образ себя» всегда идеологичен, обоснован теми или иными ценностями. И здесь легко попасться в идеологическую ловушку: увидев в рамках одной геополитики целый спектр идеологий, начать выискивать среди них «одну истинную», которая только-то и выражает предельный смысл вещей и отражает национальный характер и национальную идею. Но в отношении «образа себя» любая идеология выступает как драпировка теми или иными ценностными установками одной и той же фигуры, которая под ними, в общем-то, легко узнаваема, но которую не хотят узнавать. И доминирующая идеология отличается не своей большей адекватностью или более широкой распространенностью, а тем, что она «задает тему» для остальных, через согласие, модификацию или отрицание соотносящих себя именно с нею.
Поэтому, когда мы говорим о «Третьем Риме», о римско-византийской имперской идеологеме как о центральном геополитическом мифе России, мы имеем в виду реальное историческое место этой идеологемы, ее роль катализатора по отношению к другим русским идеологиям, не приписывая ей статуса «национальной идеи». Для нас важно разобраться, как в этой идеологии отразился «образ себя» и как идеологическая интерпретация этого образа отразилась на геополитическом поведении в целом.
Как уже было сказано, идея «Третьего Рима», но только без уточнения номера, — очень древняя, намного древнее самой Руси. Сами римляне обожествляли свой город-государство как воплощение Dea Roma и воздвигали этой богине храмы, поэты и историки говорили о Roma Aeterna (Вечном Риме). Казалось бы, торжество христианства, мученики которого гибли, в частности, и за отказ поклоняться Dea Roma, должно было положить конец этой идее, но нет — она только укрепляется, несмотря на то что отныне центром империи становится «Новый Рим» — город Константина. Римской империи находится почетное место в христианских пророчествах — из учения о четырех царствах, изложенного в Книге пророка Даниила, следует, что царство римлян — это четвертое царство, которое просуществует, пока не настанет конец света и не совершится Второе Пришествие Христово. Империя для византийцев — земное отражение порядка небесного и земная гарантия божественной справедливости, некоторой упорядоченности и обустроенности в человеческой жизни.
Римско-византийская империя — это «вечная империя», Рим — «вечный город». Они просуществуют, пока длится нынешний исторический «век», эон, за пределами которого только неподвижная внеисторическая вечность Небесного Царства. Для римлян и особенно для византийцев Римская империя является вневременной, внепространственной и вненациональной, что и позволило столь безболезненно перенести Рим с Тибра на Босфор, а потом без особых усилий счесть его расположенным на Москве-реке. Для Руси XI–XIII веков Империя также не имела четкой национальной и географической спецификации: в смысловом пространстве русских текстов Христианское и Ромейское царство существуют независимо от греков и греческого царя — во всей «Повести временных лет» греки не называются «ромеями» ни разу.
То, что существовавшая в пределах «византийского содружества» Русь заговорила о Московском царстве как о «Третьем Риме», было естественным следствием того обстоятельства, что к началу XVI века других «христианских царств» просто не осталось, а значит, транснациональная и вечная Ромейская империя de facto существовала только в форме Русского государства. «Да веси христолюбче и боголюбче, яко вся христианские царства приидоша в конец и снидошася во едино царьство нашего государя, по пророческим книгам то есть Ромейское царство. Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти. Многажды и апостол Павел поминает Рима в посланиих, в толковании глаголет: Рим весь мир» (выделено мной. — Т. Л.), — вот, собственно, аутентичный текст Филофея, в котором впервые формулируется соответствующая концепция. «Римы» пали, христианские царства окончились, Ромейское царство продолжает существовать до конца времен, стало быть, Русь и есть Ромейское царство и Третий Рим.
Но процедура «вычитания» из «Ромейской империи» всех завоеванных мусульманами народов, с остатком в виде Руси, слишком проста для того, чтобы объяснить драматические изменения, которые внес этот факт в «русскую идею». Тут что-то большее. Это большее связано с припиской, не имеющей прецедента в предшествующей христианской традиции: «а четвертому не быти». Эти четыре слова и составляют наиболее оригинальный момент в идеологическом творчестве Филофея, превращают его текст из грамотного схоластического упражнения в своеобразное пророчество. «Вечный Рим» неожиданно обретает темпоральные границы: оказывается, он как историческое явление завершается в Русском царстве, после которого уже ничего не будет, а будет конец света. «Вечное» царство неожиданно становится «последним».
Совершенный Филофеем интеллектуальный ход попадает в правильный контекст не в связи с восточно-христианской, византийской традицией, а в связи с традицией русской, традицией восприятия себя как «последнего народа», который играет роль главного катализатора «конца времен». Поразительно, сколь устойчива эта традиция — притом что в ее рамках русским выставляются прямо противоположные эсхатологические оценки: от мессианского «плюса» до антихристова «минуса».
Широко празднуемый в Русской церкви, но утраченный в самой Византии праздник Покрова Пресвятой Богородицы прямо связан с отражением варварских нашествий на Константинополь, в числе которых было и нашествие русских в 869 году, закончившееся так называемым «первым крещением Руси». Патриарх Фотий, произнесший две проповеди, посвященные этому нашествию, сравнивает русских с апокалиптическими народами, а в византийском «Житии Василия Нового» Русь прямо отождествляется с библейскими Гогом и Магогом. И такое отождествление Русью принимается: и в средние века, и позже библейский «князь Рош» ассоциируется с Русью, а другой эсхатологический персонаж, Мешех (Мосох), записывается русскими книжниками в родоначальники Москвы. Даже в самом слове «Россия» корень «рос» связан с этой, казалось бы, не слишком лестной для русских библейской ассоциацией. Но в рамках той же культурной и духовной традиции киевский митрополит Иларион в «Слове о законе и благодати» говорит о русских как о «новых мехах», в которые вливается новое вино благодати, противопоставляя их «ветхим мехам» — грекам. Меняется оценка, меняется содержание, неизменным остается место Руси в эсхатологической картине — в конце, на границе времени и истории. И Филофеево «четвертому не бывать» здесь отмеряет историю той же меркой — раз уж Русь стала Римом, то она не очередной, а последний Рим, после которого только новый потоп…
Русское пограничье в этом «образе себя» приобретает не только пространственное, но и временное измерение, которое находилось бы за гранью геополитики, если бы не стало доминирующей формой осмысления геополитического действия. Совокупность интерпретаций этой темы в русской культуре являет Россию как своеобразного «привратника» Апокалипсиса, который разделяет историю и то, что после истории, и от воли которого во многом зависит, когда и как откроется дверь.
Со «светлой» стороны — это Византийская идея катэхона, «удерживающего», того, кто не позволяет Антихристу придти в мир. Именно эта идея и послужила основанием для христианской рецепции Римской идеи. Римское государство было для христиан не только четвертым из царств в пророчестве Даниила, но и порядком, который препятствует воцарению антихристова беспорядка. Этой ролью Pax Romana и задана его условная вечность в христианском космосе, необходимость найти преемника в случае падения очередного Рима. И вот Россия говорит о том, что преемника у нее не будет, что конец «русского порядка» будет означать конец порядка вообще. При этом идея Pax Rossica носит значительно более геополитический характер, чем Pax Romana. Римский порядок трактовался прежде всего как порядок внутри империи, а империя — как ограниченный и замкнутый геополитический космос, вокруг которого разлит бесструктурный хаос. Русский порядок довольно скоро оказался порядком внешнеполитическим, это порядок, обращенный на освоение и структуризацию окружающего геополитического пространства — при значительно меньшем внимании к внутренней структурности. Если римский «катэхон» сдерживает внутренний распад, то русский — внешнего врага.
Такая перестановка акцентов в «образе себя», приводящая к возникновению совершенно иной геополитической доктрины, возможно, связана с довольно рано определившимся положением Руси в Восточной Европе, ее ролью барьера, спасающего последнюю от постоянных набегов степняков. Сами эти набеги описывались русскими книжниками теми же апокалиптическими образами, что и некогда набеги самих русичей византийцами, а прославляемая победа над восточными врагами сравнивается с «запиранием Александром Македонским» апокалиптических народов.
Идеология «щита» оказывается очень важным дополнением и интерпретацией идеи «удерживающего», мало того — она становится своеобразным секуляризованным ее вариантом. Если византийская идея «катэхона» в ее чистом виде со времен петровских преобразований оттесняется на задний план, то идея «щита Европы» находит блестящее выражение в пушкинском письме Чаадаеву, как бы претендовавшем на выражение неофициальной русской национальной идеологемы в противоположность чаадаевскому скептицизму и критицизму в отношении России.
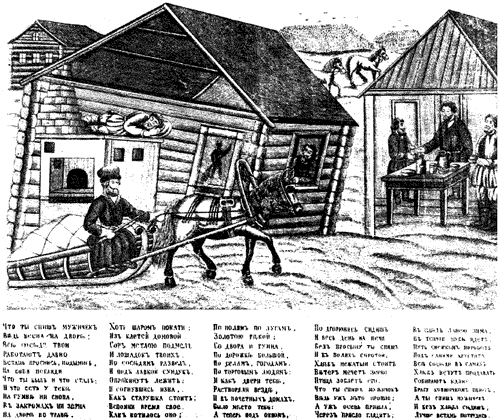
На государственном уровне идеология в общем-то та же, причем переносится она и на внутриевропейские отношения. Когда русские государи вступают в войну (как Елизавета против Фридриха II, Александр I против Наполеона, Александр II против Турции, а Николай II против Германии), и когда они пытаются выступать в роли миротворцев (как первый и третий Александры), и когда они берутся выполнять роль «жандармов Европы» (как Николай I, а ранее в отношении французской революции Екатерина), обоснованием для них бывает идея охраны порядка от амбициозных и мятежных посягательств. Не претендуя на безусловное единоличное доминирование, Россия выступает внешним и внутренним гарантом европейского мира — с одной стороны, защищая его от азиатских нашествий (с какого-то момента — мнимых), с другой — от внутриевропейских смутьянов и агрессоров. Идея оказалась столь устойчивой, что пригодилась и при геополитической легитимации итогов Второй мировой войны (интерпретированной как усмирение Советским Союзом внутриевропейского агрессора), и сегодня — при обосновании антитеррористической деятельности — как на Северном Кавказе, в собственных пределах, так и в Афганистане — в чуждых. Коль скоро международный терроризм все более приобретает черты глобального варварства, то и Россия для правильного геополитического позиционирования неизбежно приобретет и уже приобретает образ главного антитеррориста, который опять и опять противостоит мировому злу.
Но возможна и противоположная интерпретация той же геополитической позиции — Русь может восприниматься не как препятствие, а как союзник и проводник апокалиптических орд. Эта идея была реализована, например, в полуофициальной идеологии раннего большевизма. Достаточно вспомнить знаменитых блоковских «Скифов» с их пафосом отбрасывания русского щита между монголами и Европой и присоединения к наседающей на цивилизованный мир дикой орде. Идея раздувания революционной Россией мирового пожара и все многочисленные изводы «евразийской идеи», предполагающие организацию Россией похода всех и вся против «общего врага», Запада, — концепции того же порядка. В этом сценарии Западу отводится роль легитимного наследника римского порядка (что в рамках византийской идеологии невозможно — там «европейская идея» всегда будет представляться не более чем узурпацией), а Россия выступает в роли «князя Рош», Гога и Магога — протагонистов Армагеддона. Русские оказываются как бы по другую сторону апокалиптической двери — они уже не удерживают Антихриста, а сами впускают его в мир. «Четвертому не бывать», поскольку третьи сами взорвут историю после себя. Именно так, по крайней мере, обстояло дело по мнению многих русских православных деятелей ХХ века, увидевших в советской власти власть Антихриста.
* * *
Этой оппозицией «удерживающего/разрушающего», которая не то чтобы совсем легко, но очень быстро поддается инвертированию, и определяется самая сложная составная часть русской геополитической мифологии — «образ себя». И этот образ по-особому осмысливает остальные составляющие геополитического действия, в частности и пространство.
Русское пространство — огромное, по возможности бескрайнее, со всеми находящимися на нем людьми и вещами — оказывается пространством-препятствием, гигантским геополитическим буфером. Но только не буфером между какими-то другими участниками геополитической игры (образ «монголов и Европы»— это именно метафорическое обобщение, поскольку нигде за пределами «русской доктрины» конфликта этих двух сил, в общем-то, не наблюдается), а буфером «самим по себе», мешающим всем вообще в любых их действиях, придающим незаконченность, длительность любым историческим процессам. Те же православные эмигрантские идеологи, которые еще в 1950-е говорили об антихристовом дыхании, веющем из СССР на свободный мир, к 1970-му, убедившись в том, что Запад подвержен процессу «апостасии», тотальной дехристианизации, заговорили о том, что советскими оковами Россия, как оказалось, защищена от этих процессов, своим несвободным, «подмороженным» состоянием гарантирована от вливания в сознательное отречение от христианства.
Другими словами, Россия, сама не оформившись в какой-то ясный и законченный образ (в отличие от той же Римской империи), препятствует, однако, оформлению любого другого глобального политического образа — будь то фашизм, либерализм, исламизм или любая иная из конкурирующих мировых сил. При этом «удерживающий» («катэхон») инвертируется в «разрушителя», т.е. становится проводником нового… беспорядка, нового хаоса, заливающего мир (интересное отражение этот хаос получает в западных «русофобских» образах — от кровожадного «kossak» или комиссара до «русской мафии»). Но при любом раскладе Россия оказывается тем последним кусочком любого геополитического «паззла», без которого картинка не складывается.
Один из самых старых мифов классической геополитики — это созданный Хартфордом Маккиндером миф о «Хартленде» — сердце Земли, «географической оси истории», располагающейся аккурат на Русской равнине. Из поколения в поколение геополитики с энтузиазмом или скептицизмом повторяют маккиндеровское заклинание: «Кто доминирует над Восточной Европой, тот доминирует над Хартлендом; кто доминирует над Хартлендом, доминирует над Мировым Островом (Евразия + Африка. — Т. Л.); кто доминирует над Мировым Островом, доминирует над миром». Даже если не относиться слишком всерьез к псевдогеографическому содержанию этого утверждения, «Хартленд» может считаться яркой метафорой того геополитического положения, которое занимает русское пространство по отношение к остальным мировым пространствам, и того образа, через который осмысливает себя русское геополитическое действие.
И в самом деле, Хартленд — это пространство-ключ и пространство-препятствие, контроль над которым только и может придать целостность и устойчивость любой глобальной геополитической конфигурации, но которое ускользает, отбивается от контроля. Русские оказываются (и сами себя мыслят) хранителями этого сердца, вечной жертвой посягательств со стороны тех, кто хочет подчинить себе Мировой Остров. Мифологема постоянной жертвы — еще одна поразительная трансформация римской идеи державной власти над народами в русской геополитике. Русский всегда «защищается», даже и тогда, когда кажется, что он нападает. Но русский Хартленд — это еще и постоянная угроза миру. Там, в уральских горах, заперты до Конца Времен апокалиптические народы-разрушители, приход которых и будет означать Армагеддон.
Таким образом, в своем геополитическом положении Россия может быть осмыслена и как главный хранитель мира, и как главная ему угроза.