Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
По былинам старого времени
Традиционная русская культура, считающаяся в наше время единственным источником если не истины, то хотя бы нормы, действительно располагает ответами на многие вопросы. Из старинных преданий мы узнаем немало — почему у пшеницы зерна только на верхушке стебля, откуда «есть пошла» русская земля и кто первый начал в ней княжить, как перевелись на Руси богатыри и тому подобное. Однако даже самый восторженный почвенник, соприкоснувшись с этими текстами, нередко будет поставлен в тупик. Древние тексты многослойны, неоднозначны и порой обманчиво понятны, и это прямое и буквальное понимание на поверку оказывается ложным. К счастью, в наше время выходит немало специальной литературы, посвященной как принципам формирования и функционирования фольклорного сознания в целом, так и отдельным традиционным жанрам русской словесности.
 Березкин Ю. Э. Африка, миграции, мифология. Ареалы распространения фольклорных мотивов в исторической перспективе. —
Березкин Ю. Э. Африка, миграции, мифология. Ареалы распространения фольклорных мотивов в исторической перспективе. —
СПб.: Наука, 2013. — 320 с.
Эта скромная по объему книга — лучшее подтверждение тезиса, что наука прежде всего коллективный труд. Дело не только во внушительной библиографии на последних страницах. Автор этой книги — специалист по истории и археологии доколумбовой Америки. Отсутствие письменных источников истории большей части народов Нового Света предопределило обращение исследователя к широкому кругу вспомогательных исторических дисциплин, его участие в проекте «Мифы и гены» и в итоге использование данных фольклористики, популяционной генетики, физической антропологии, палеоботаники, истории климата и множества других разнообразных наук для создания единой реконструкции дописьменной истории человечества. С ней вы и сможете ознакомиться в этой книге.
Юрий Березкин исходит из того, что люди современного типа в подавляющем большинстве — потомки одной и той же популяции, которая вышла из Африки и поглотила других более древних антропоидов (неандертальцев и денисьевцев), растворившихся в ней почти без следа. Первая волна (75—62 тыс. л. н.) через Синай и Баб-эль-Мандебский пролив прошла в Юго-Восточную Азию, Индонезию и Австралию, вторая (38—24 тыс. л. н.) тем же путем — в Северную Евразию, а оттуда в Новый Свет. При этом Африка южнее Сахары (в период с 60 тыс. л. н. по 14 тыс. л. н.) была по причине неблагоприятных климатических условий изолирована от остального мира.
Автор членит фольклорные повествования на элементы, повторяющиеся в текстах из разных традиций, называя эти элементы мотивами. Для своих реконструкций он обращается прежде всего к тем из них, которые встречаются часто, но далеко не у всех народов, то есть к мотивам, позволяющим сравнивать разные фольклорные традиции по степени схожести мотивного фонда. Поскольку исследования, проведенные в рамках проекта «Мифы и гены», показали наличие корреляций между некоторыми фольклорными мотивами и некоторыми генетическими маркерами, Березкин исходит из предположения, что мифы преимущественно передавались от родителей к детям. Правда, исследователь не отрицает и иных способов распространения фольклорных мотивов, например, с купцами и пленниками на тех территориях Евразии, которые, будучи связаны торговыми путями и входя в состав огромных империй, издревле составляли единую миросистему.
Наиболее важным для концепции Березкина является фольклор тех этносов, предки которых по причине изменений земного климата или рельефа тысячелетиями находились в изоляции от остального мира. Это Африка южнее Сахары, Центральная и Южная Австралия и Новый Свет. По Березкину, комплексы мотивов, сближающие отдельные традиции народов, которые к моменту прихода европейцев обитали по разные стороны Индийского и Тихого океана, оказываются древнейшими.
Казалось бы, подобное изучение мифа не предполагает ни попыток пробиться к смыслу конкретных повествований, ни прогресса в изучении конкретных традиций.
Как и в предыдущих работах исследователя, миф изучается не сам по себе, а как некий маркер, позволяющий отслеживать древнейшие миграции и контакты, а выделяемые Березкиным мотивы присутствуют в рассматриваемых им фольклорных традициях как некая не осознаваемая ее носителями примесь, подобная узору зубов или древним языковым заимствованиям. Это не более чем еще один классифицирующий признак для ученых-этнологов.
Тем не менее тот факт, что в группу мотивов, выделенных как древнейшие, попадают разнообразные мифы о происхождении смерти, говорит сам за себя и в принципе может быть интерпретирован специалистами из других областей — социальными антропологами, психологами, религиоведами и т. д.
Появление смерти связывается в этих мифах с непройденным испытанием (неправильным ответом на вопрос, нарушением запрета, отказом выполнить задание демиурга и т. п.) или же нежеланием некоего персонажа (зооморфного или даже антропоморфного) учесть чужие интересы. Кстати, различные версии истории про запретный плод известны и в Африке южнее Сахары, и в Меланезии, и в Амазонии. Мы можем предположить, что древность этого мотива говорит о его смысловом и экзистенциальном приоритете. Скажем, мифы о происхождении звезд, по Березкину, возникли позднее.
Более ранние работы Березкина содержат опровержение концепций, провозглашающих какой-либо конкретный мифологический образ, например мировое древо, универсальной стадией развития культуры или даже человеческого духа. Для этого достаточно показать, что тот или иной мотив зафиксирован далеко не во всех возможных ареалах.
Однако данная работа начинается с констатации того, что в ней рассматриваются только те мотивы, которые позволяют различать фольклорные традиции разных популяций, выявлять степень их расхождения. Таким образом, признается существование и мотивов универсальных, например, об обретении людьми огня при помощи его похищения. Просто это не те мотивы, о которых писали предшественники Березкина.
Что представляют собой подобные «общие места»? Некие подобия союзов и вспомогательных глаголов в естественном языке, обладающие главным образом синтаксическими функциями, но по отдельности лишенные смысла? Или же они подобно лексемам обладают собственным значением, то есть, коль скоро речь идет о мифологии, отвечают на некие фундаментальные вопросы о происхождении Вселенной, месте в ней человека, основах общежития и т. п.?
Даже если универсалии окажутся предельно бедны смыслом, есть основания истолковать некоторые рассматриваемые Березкиным «фриквенталии» (мотивы, встречающиеся в большинстве традиций), грубо говоря, как разные способы выражения одной и той же идеи, каковая в свою очередь и окажется универсальной. Одним словом, нет никаких сомнений, что проект Березкина сулит в будущем не меньше потрясающих открытий, чем те, которые уже сделаны.
У истоков мира: русские этиологические сказки и легенды. Составление и комментарии О. В. Беловой, Г. И. Кабаковой. —
М.: Форум; Неолит, 2014. — 538 с.
Как отметил еще Е. М. Мелетинский, статус одного и того же фольклорного сюжета в разных традициях может быть не одинаковым. Например, он может послужить основой для некой истории, которая считается достоверной, связана с реалиями жизни и обычаями конкретного народа и имеет этиологический финал (рассказывает о происхождении чего-либо). Или же считаться вымыслом и служить для развлечения. В первом случае повествование принято называть мифом, во втором — сказкой.
Соответственно перед нами уникальный сборник особого рода русских прозаических фольклорных текстов, которые можно назвать русскими мифами. Новизна их для науки относительна — некоторые из них записаны еще в XIX веке. Однако как особый жанр они привлекли к себе внимание исследователей сравнительно недавно.
Все вошедшие в сборник фольклорные тексты имеют этиологический финал. Они рассказывают о происхождении суши, людей, определенных растений, животных и птиц, пищевых запретов, обычаев разных народов и т. д. Из них мы узнаем, как появились болезни, откуда у человека кадык, что определило продолжительность человеческой жизни, почему у фиалки приятный запах, а у аконита узкие листья, отчего воробей скачет на одной ноге, чем объясняется власть мужчины над женщиной и отсутствие у последней свободного времени.
Большую часть текстов, вошедших в сборник, можно разделить на две группы: «народная Библия» и, скажем так, тексты с сюжетом, хорошо знакомым нам с детства по сказкам. Чрезвычайно широко распространенной оказывается история, напоминающая сказку о Золотой Рыбке.
В ее роли выступает волшебное дерево, в итоге превращающее жадную и властолюбивую супружескую пару в медведей. Сказка о женихе-змее, который вынудил девушку выйти за него замуж, расположившись на
ее одежде после купания, заканчивается ее превращением в кукушку или же в ель,
а ее детей — в другие деревья и т. п.
В рассказах о сотворении мира и тех или иных вещей и животных фигурируют Бог (Христос) и сатана. Несмотря на наличие таких персонажей, эти тексты обладают чертами, которые никак не позволяют свести их ни к православию, ни даже к христианству в целом. Дело не только в том, что русская традиция увязывает с евангельскими событиями происхождение растений. Мы видим следы принципиально иного мировоззрения.
В некоторых вариантах Бог и дьявол творят мир вместе. Сатана по заданию Бога достает со дна океана землю, из которой Бог творит сушу. В одном из текстов они даже названы братьями, живущими «в одной избе».
И один из них создает хорошие вещи: сушу посреди океана, скот, птиц и т. д., второй — плохие: болезни, болота, горы и овраги, змей, комаров и — да, такой текст тоже записан! — женщин.
Такая картина мира напоминает богомильскую ересь или даже манихейство, однако в русских рассказах о сотворении мира мы находим элементы, куда более древние, чем эти вероучения. Например, есть рассказы, в которых младший демиург помогает Богу тем, что в облике водоплавающей птицы ныряет на дно первозданного океана за землей.
Как показывают исследования Юрия Березкина, данные мотивы (сотворение мира двумя демиургами и сотворение суши из земли, поднятой ныряльщиком со дна океана) широко распространены не только в Евразии (в Африке и Австралии их нет, так что к числу древнейших, по Березкину, он не относится), но и у коренных жителей Нового Света. Так что если разделять его подход, оказывается, что возраст русских сказаний о сотворении мира можно оценивать в 10—15 тысяч лет, они существовали задолго до того как сложился сам русский народ и до того как появилось манихейство.
На примере отечественных сказаний и легенд мы в очередной раз убеждаемся в том, что ни одна культура не может считаться уникальной и складывается из элементов, во-первых, присущих и другим культурам, во-вторых, по отдельности более древних, чем их сочетание, определяющее своеобразие этой культуры.
Веселовский А. Н. Избранное:
обрядовые и эпические традиции. —
М.: Политическая энциклопедия, 2013. — 637 с.
Перед нами переиздание трудов классика российской филологии и фольклористики Александра Веселовского (1838—1906). Большая их часть посвящена сюжетам былин, русского исторического эпоса.
Александр Веселовский — фигура удивительная. Поражает широкий круг научных интересов и значение его вклада в науку. Веселовский — создатель исторической поэтики. Ему принадлежит первая в отечественной науке теория мотива. Он ввел понятие «бродячие сюжеты». Без исследований Веселовского в России едва ли была бы возможна «Морфология волшебной сказки» Владимира Проппа и даже, в конечном счете, аналитический каталог фольклорно-мифологических мотивов Юрия Березкина.
То, что работы Веселовского принадлежат не нашему времени, к сожалению, очень заметно. Классик российской науки приводит цитаты из текстов средневековых европейских литературных памятников без перевода. Он уверен в своем читателе-полиглоте. Современному издателю пришлось обращаться к нескольким переводчикам.
Большая часть сборника посвящена былинам. Их герои знакомы читателю по популярным адаптациям былинных сюжетов (Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, Садко) или же по стандартным курсам русского фольклора, которые читаются в наше время на гуманитарных факультетах (Дюк Степанович, Чурила Пленкович и т. д.).
Рассматривая соответствующие былины, Веселовский находит параллели к их сюжетам в средневековой европейской литературе, преимущественно в книжном эпосе.
Например, бой Ильи Муромца с сыном Сокольником, закончившийся гибелью последнего, напоминает исследователю древненемецкую поэму о Гильдебранте и Гадубранте. Попытки Алеши Поповича оклеветать жен или сестер других богатырей Веселовский сравнивает с действиями неудачливых и коварных соблазнителей из средневековых греческих и итальянских песен, сюжет которых известен нам по одной из историй «Декамерона» (девятая новелла второго дня). Разумеется, говорить о прямом влиянии приходится редко.
Самый убедительный случай — разбор былины о Садко. Веселовский указывает на ее сходство со старофранцузским романом о Тристане Леонском. В нем фигурирует племянник Иосифа Аримафейского Садок, который, как и Садко, вынужден броситься с корабля в воду, чтобы остановить бурю. Таким образом, данный былинный мотив обнаруживает в конечном счете библейское происхождение и представляет собой (имя Садок — еврейского происхождения) видоизмененную историю пророка Ионы, проникшую в средневековую литературу и русский фольклор из литературы древнееврейской.
 Веселовский не сомневается в том, что «народный эпос всякого исторического народа по необходимости международный». Фольклорные тексты, рассматриваемые исследователем, и впрямь иной раз поражают космополитизмом. Дюк Степанович, герой самой популярной, по подсчетам Владимира Проппа, русской былины, явный иноземец. Он хвалится своим богатством, конем и стряпней своей матери, с которыми на Руси ничто не может сравниться. Когда посланцы киевского князя отправляются на родину Дюка в Индию, его слова полностью подтверждаются. Более того, Добрыня Никитич попадает в неловкое положение, принимая богато одетых женщин в палатах Дюка за его мать, однако те оказываются лишь ее служанками.
Веселовский не сомневается в том, что «народный эпос всякого исторического народа по необходимости международный». Фольклорные тексты, рассматриваемые исследователем, и впрямь иной раз поражают космополитизмом. Дюк Степанович, герой самой популярной, по подсчетам Владимира Проппа, русской былины, явный иноземец. Он хвалится своим богатством, конем и стряпней своей матери, с которыми на Руси ничто не может сравниться. Когда посланцы киевского князя отправляются на родину Дюка в Индию, его слова полностью подтверждаются. Более того, Добрыня Никитич попадает в неловкое положение, принимая богато одетых женщин в палатах Дюка за его мать, однако те оказываются лишь ее служанками.
Веселовский видит в этой истории отзвук средневековых европейских легенд о пресвитере Иоанне (благочестивом и могущественном христианском властителе Индии) и старофранцузских преданий о хождении Карла Великого в Иерусалим и Константинополь. По пути франки встречают богато украшенные шатры, которые могли бы принадлежать византийскому императору Гугону, однако богато одетые люди в них — это его пастухи. Сам монарх занят пахотой, однако не по необходимости, а потому что помнит слова, которые Господь сказал Адаму, изгоняя его из рая. Александр Веселовский резонно указывает на сходство этого персонажа с другим широко известным былинным героем, богатырем-пахарем Микулой Селяниновичем.
Современные эпосоведы упрекают Веселовского в том, что он безосновательно рассматривает русский былинный эпос и средневековую европейскую литературу как явления одного порядка. Тем не менее современной фольклористике известно немало случаев, когда фольклорный сюжет в конце концов обнаруживает свое книжное происхождение. Посредником между европейской литературой и русским эпосом и могла быть литература византийская, к которой Веселовский часто обращается на страницах этой книги.
В любом случае благодаря Веселовскому мы получаем удобный каталог мотивов и формул, из которого видно, что средневековый европейский книжный эпос и русские былины похожи друг на друга во многих деталях больше, чем, допустим, древнерусская литература и сочинения графа Толстого.
И, разумеется, не умея распознавать бродячие сюжеты, мы никогда не сумеем успешно использовать русский эпос как исторический источник.
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое. — М.: Институт русской цивилизации; СПб.: Издательство
Олега Абышко, 2014. — 416 с.
Книга выдающегося русского филолога медиевиста-текстолога Гелиана Прохорова вышла в серии с многообещающим названием «Исследования русской цивилизации». Среди тем, намеченных Институтом русской цивилизации для освещения, — такие жемчужины, как «Третий Рим против нового мирового порядка» и «Денежная держава антихриста».
И тем не менее про все эти приметы времени полностью забываешь. Ведь перед нами свод работ Прохорова почти за полвека. Почти половина глав опубликована в виде статей еще в советское время. Остальные появились в 1990-е и нулевые, но по научной строгости не уступают доперестроечным. Предмет исследования Прохорова — самые древние из дошедших до нас русских летописей. Ученый пытается разобраться, какие из них первичны, в каких условиях и с какой целью они создавались.
По большей части книга состоит из специальных текстологических выкладок. Прохоров восстанавливает стершиеся буквы, возвращает в изначальное положение перепутанные страницы, сравнивает самые древние из дошедших до нас русских летописей постатейно, определяя заимствования, дополнения, пропуски и редактуру. Единственное, чего он стремится по возможности избежать, это оперирование гипотетическими протографами, в частности «Новгородской Карамзинской летописью», реконструированной основоположником российской науки о летописании А. А. Шахматовым. Выводы, к которым приходит исследователь, состоят в том, что древнейшие из дошедших до нас летописей (Лаврентьевская, Ипатьевская, Радзивиловская, Рогожский летописец) уже отражают владимирскую, а затем и московскую точку зрения на историю Руси.
Еще во второй половине XII века при Всеволоде Большое Гнездо во Владимире начинается сведение киевских, новгородских, полоцких и других материалов в общероссийский свод, для того чтобы обосновать право этого князя на верховенство во всей Руси. Другой свод с подобной же целью, как считает Прохоров, был создан при великом князе Дмитрии Ивановиче в 1377 году.
Исследователь не ставит перед собой цель описать картину мира и систему ценностей древнерусского летописца, однако по мере чтения его книги у читателя складывается четкое представление о методе написания древних хроник и целях их создателей. Как замечает Прохоров, летописи как жанр подобны фольклору («канцелярский эпос Древней Руси») в том смысле, что их авторы, как правило, не представлялись читателю. Пергамент и бумага были ресурсом ограниченным. Адресатами хроник были князья, люди занятые и зачастую неграмотные, то есть нуждающиеся в том, чтобы им читали вслух, поэтому от себя летописец мог добавить крайне мало.
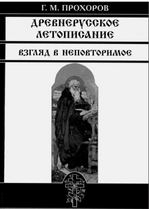 Более того, как показывает Прохоров в главе «Повесть о Батыевом нашествии в Лаврентьевской летописи», зачастую летописцы оперировали неким набором общих мест, то есть стереотипных способов выражения определенных идей. К примеру, автор вышеназванного памятника, описывая зверства напавших на Русь татар на территории Рязанского княжества, дословно воспроизводит взятую из «Повести временных лет» картину разгрома византийских побережий, учиненного в 942 году дружиной князя Игоря, то есть в большинстве своем язычниками. Когда же речь идет о разорении Владимира, то опять-таки дословно повторяется рассказ о том, что делали в 1203 году половцы в захваченном ими Киеве. Можно ли считать летописца лжецом? Археологические раскопки на территории древнего Киева и Старой Рязани не позволяют усомниться в реальности монгольского нашествия и катастрофичности его последствий. И летописец вполне мог верить в то, что при нападении язычников на христиан всегда происходит одно и то же.
Более того, как показывает Прохоров в главе «Повесть о Батыевом нашествии в Лаврентьевской летописи», зачастую летописцы оперировали неким набором общих мест, то есть стереотипных способов выражения определенных идей. К примеру, автор вышеназванного памятника, описывая зверства напавших на Русь татар на территории Рязанского княжества, дословно воспроизводит взятую из «Повести временных лет» картину разгрома византийских побережий, учиненного в 942 году дружиной князя Игоря, то есть в большинстве своем язычниками. Когда же речь идет о разорении Владимира, то опять-таки дословно повторяется рассказ о том, что делали в 1203 году половцы в захваченном ими Киеве. Можно ли считать летописца лжецом? Археологические раскопки на территории древнего Киева и Старой Рязани не позволяют усомниться в реальности монгольского нашествия и катастрофичности его последствий. И летописец вполне мог верить в то, что при нападении язычников на христиан всегда происходит одно и то же.
Другое дело, что, как доказывает Гелиан Прохоров, автор «Повести о Батыевом нашествии», используя эти традиционные приемы, стремился изменить настоящее и будущее, то есть толкнуть князя Дмитрия Ивановича на открытую борьбу с татарами.
Проведенный исследователем анализ летописей показывает, что парадоксальным образом именно те их особенности, которые с нашей точки зрения являются недостатками, сообщают многое о намерениях авторов и ситуации создания конкретных памятников. И наблюдения эти, безусловно, можно распространить на другие разновидности традиционных русских повествований о прошлом: их жанровая условность, непоследовательность и противоречивость оказываются для историка источником бесценной информации. Конечно, они не научат нас, как жить в настоящем, но, безусловно, обогатят знания отечественного читателя о прошлом его страны и его народа, обычаях и верованиях, ушедших навсегда вместе с аутентичным русским летописанием, эпосом и мифом.
